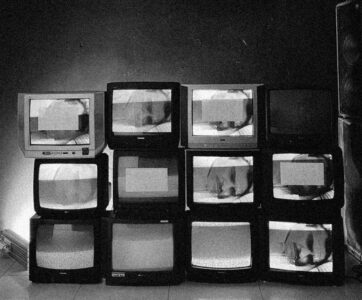Небо над городами
Небо над городами.
Бергман и немецкое кино
Марина Дроздова
Говорить о конкретных взаимовлияниях кинематографа Бергмана и немецкого кино, скорее всего, не имеет смысла, ибо в таком случае мы утонем в условности. Однако действительно любопытно было бы обнаружить некие, пускай случайные, пересечения эстетических миров и мифологии. Прочитав однажды о том, что эстетика Бергмана отличается «готической виртуозностью», я поняла, что, пожалуй, это одна из самых точных его характеристик. Шведского режиссера привлекает сюжет как духовный и философический эксперимент.
Иногда, в минуту душевного транса, в который умеют вводить зрителя работы Бергмана, автор напоминает писца, древнего настолько, что в строгих линиях своей каллиграфии он чувствует еще животную подоплеку праязыка (языка, в котором прототипы символики еще не забыты). Но эта память — тайна. Теперь правит бал геометрия алфавита (он здесь — древняя символика, оставшаяся от языческих времен и перевоплотившаяся в детально артикулированную систему духовных законов). Если в том же ключе пытаться выявить общую тональность такого большого и разнородного пространства, как немецкое кино, то мы увидим, что его алфавит находится в состоянии неостановимой охоты (за замирающими знаками?), что он не пленен обязательным смыслом и, соответственно, не состоит с ним в противостоянии — в том скрытом и болезненном противостоянии, которое связывает язык и текст у Бергмана.

Змеиное яйцо
С одной стороны, Бергман, очевидно, раб идеи, мгновенно обретающей статус законченной формы. С другой — его ощущение шведского культурного феномена проявляется в том, что мрачная философичность соединяется с ощущением дохристианской телесной восприимчивости человеческого организма, не уничтоженной последующими пластами традиций поведения. Естественно, в вышеприведенном условном сравнении отражаются позиции, опирающиеся на специфику национальных культур. Могут ли прояснить нашу тему конкретные примеры?
Оттолкнемся от самого простого пункта (но только оттолкнемся, чтобы вернуться к нему, сделав круг) — от «Змеиного яйца». В этом фильме Бергман в силу своего аскетизма (знак его качества) не стал отыгрывать во всю мощь идею циркача, воздушного гимнаста — дав ее только в одной сцене (попытки побега), да и то больше в последующем диалоге. Он не любит открытой пластики в кадре — как воздушного и телесного потока; он смиряет плоть в таких ситуациях, и ему доставляет удовольствие это смирение. И там, где Вендерс «открывал» бы кадр для свободного падения, идентифицируя свое «я» с этим движением, Бергман отстранился, сосредоточившись на фиксировании этого движения при одновременном интеллектуальном комментарии, который чувствует монтажный ритм и кристаллизует смысл («Небо над Берлином» и «Змеиное яйцо»). Там, где Херцог обнажает неадаптированную к социальной традиции личность и душу, исследуя ее с доверчивостью и простотой растениеведа, Бергман строит многомерную, строго продуманную систему отражений, в которых эта душа ищет свое собственное «я». И там, где Херцог смотрится прерафаэлитом, Бергман выглядит американским натуравангардистом («Войцек» и «Персона»). Там, где Клюге (Клюге здесь, может быть, важнее остальных) и его герои мечутся в животно-страстном стремлении самоидентифицироваться в реальности, охотясь на свой же замкнутый, растерянный внутренний мир, наталкиваясь на отражения друг в друге или — в не отдающем своей независимости пространстве, — интуиция Бергмана, интуиция другого сорта, обнаруживает это обреченное противостояние сразу в виде конструкции, детали которой если и не взаимообусловлены, то взаимообязаны («Прощание с прошлым», «Артисты под куполом цирка: беспомощны» и «Как в зеркале»).

Райнер Вернер Фассбинер Берлин. Александерплац
Оказывается на виду его специфическая для кинематографа интуиция, опирающаяся на романную традицию XIX века, для которой важен приоритет канона — и в области исторических сил, и в области духовных. Именно здесь следует искать природу того, что трактуют как нравоучительность Бергмана. Как мудро сформулировано в одной из статей Микаэля Тимма, «в основу своего кинематографа Бергман положил культурное наследие Европы, сложившееся в докинематографическую эру», — в силу этого он не тушуется перед «стоящими вопросами» (что стало естественным для периода после слома классической культуры). На той территории, где ранний Фассбиндер и его персонажи а) беснуются, 6) транжирят и вымучивают свой пол, в) травят свою гордыню, — Бергман заставляет своих персонажей разыгрывать все это с шекспировским реализмом («Из жизни марионеток»). Там, где поздний Фассбиндер смакует и третирует набухший тоталитарный декаданс, совершая над томящимся стилем насильственный сексуальный акт, Бергман с редкой для него нервностью стремится осязать логику стиля, времени, механизма («Лили Марлен», «Змеиное яйцо»).
Естественно обратить внимание на то, что точки пересечения немецкого кино и столь таинственно разножанрового опыта, как кинематограф Бергмана, связаны с природой как основополагающей категорией. Бергман открывает в природе (человек в пейзаже) духовную драматургию. Его «оппоненты» манипулируют чистотой и правильностью крупномасштабных потоков природы как таковой.
Примерно о подобном соотношении можно говорить и применительно к философскому поиску. Бергман редко оставляет пинцет и микроскоп, это его правило, хотя и без этих орудий он умеет делать божественные вещи. Сказать, что он хладнокровнее других, это значит все обобщить до предела. Но то, что в толковании мира он как натурфилософ хладнокровнее поэта, это верно.

Райнер Вернер Фассбинер Берлин. Александерплац
Впрочем, даже будучи натурфилософом, он не склонен к каталогизаторству, предпочитая то, что можно сформулировать как «духовный иллюзионизм» (формулировка Томаса Манна по поводу театра). В связи с этим и природа, и натура существуют у него как крупная декорация для оного (иллюзионизма), мимикрирующая под формы реального. Но в то же время декорация на удивление стойкая — ведь было бы слишком просто, если бы она стремилась повалиться. И в этом смысле можно говорить о магическом и одновременно философском, но неореализме. Движущая сила германского кинематографа — все-таки анализ с позиции мифологии. И, значит, в нашем сравнении можно говорить о разной силе притяжения и времени, и пространства — к избранной идее или сюжету. Ибо Бергман работает вне понятия мифа в современном (то есть постмодернистском) его понимании — поскольку его сила как раз в том, что он умеет улавливать трагичность момента бытия в его неповторимости и индивидуалистичности. Мы должны отметить, что большая часть вышесказанного имеет смысл, пока в поле нашего зрения лежит послевоенное кино, поскольку с величинами кино периода фундаментального и магнетического освоения своей природы Бергман оказывается в несколько других соотношениях. Он и существует в исторической цепи как связующее звено между кинематографом, где каждая краска экрана рукотворна, и последующим этапом, когда приходится иметь дело с однажды уже экранизированной реальностью.