Мой Андерсен
В детстве и в юности я зачитывался замечательными андерсеновскими сказками. «Русалочка», «Голый король». Безумно любил «Снежную королеву» и всегда плакал над ней. Однако до встречи с Эльдаром Рязановым мое знакомство с Андерсеном тем и ограничивалось. Помню, правда, что Параджанов очень хотел делать фильм по его биографии и, кажется, даже показывал мне свои рисунки… Но дальше дело не пошло. Андерсен оставался для меня лишь автором великолепных сказок.
Так что предложение Эльдара застало меня врасплох. Но я согласился и прочел несколько книжек про жизнь Андерсена. Не книжек даже, книжонок — в них было много патоки и елейности, но совсем не угадывался человек. Читать их было решительно неинтересно. Потом я добрался до «Сказки моей жизни» самого Андерсена, написанной в тех же конфетно-мармеладных тонах. Может, просто эпоха была такая? И в ходу были только сентиментально-романтические биографии? …
Прочитал я все это и призадумался: «Что же тут можно выуживать? Сказки сказками, но фильм-то на чем строить?» Эльдар тоже был в растерянности. Начали читать по второму кругу. Чувство разочарования лишь усиливалось, но мы хотя бы определили некую хронологию жизни Андерсена — и стали заполнять сценарное пространство… не то чтобы вымыслом — скажем так, «фантазиями на тему». Мы пытались представить, а затем и описать ту реальную жизнь, которая просвечивала сквозь всю эту густую биографическую патоку.

Андерсен был выходцем из низов, страстно жаждал признания и мечтал о славе. Некрасивый и нескладный, он всегда влюблялся в первейших красавиц, а те ему отказывали. Может быть, кто-то из них и не прочь был лечь с ним в постель: уже при жизни он был архизнаменит, и все — в том числе женщины — преклонялись перед его талантом. Но он тянул их не в постель, а под венец. То есть — не того требовал. Поэтому он умер, так и не познав женщину, хотя был, изъясняясь на нынешнем жаргоне, «нормальной ориентации». Зато на бумаге он воплощал все свои желания и изображал героя (читай — себя) сказочным красавцем, ангелоподобным атлетом, любимцем всех женщин. И вот это все: какой он был в жизни, какие оплеухи от нее получал и как, словно в отместку, прял из нее ткань своих сказок — мы с Эльдаром вкладывали в наш сценарий.
Павильон герцога. Декорация
В павильоне у большого зеркала в золотой раме Дженни, уже без коньков, пудрилась, приводя свою внешность в еще больший порядок. Подскочил Ганс Христиан. Он совершенно перестал себя контролировать.
Андерсен: Я заставлю вас выйти за меня замуж. Знаете пословицу: «Стерпится — слюбится». Я вознесу вас высоко-высоко, как вы того заслуживаете. Для вас я покорю мир! Скажите «да»! Умоляю!
Дженни: Ганс Христиан, вы становитесь однообразным!
Андерсен (почти плача): Скажите, что вы согласны стать моей женой!
Дженни (резко): Нет! Нет! И нет!
Андерсен: Почему же?! Почему?
Дженни (жестким тоном): Ладно! Посмотритесь в зеркало…
Андерсен перевел взгляд и увидел в отражении очаровательную женщину и рядом с ней нелепого, нескладного, уродливого, зареванного дылду с орденами на сюртуке, стоящего на коньках. И тут с ним случилось шоковое отрезвление. Он увидел себя чужими глазами. Он разглядывал в зеркале уродца с носом, похожим на пеликаний клюв.
Пеликаны
Мы с Эльдаром поделили между собой биографию Андерсена; каждый взял и разрабатывал свой участок. Потом я корректировал написанное им, а он — написанное мной. Так мы и соткали это пестрое панно. Под конец я стал вставлять в сценарий свои личные истории, извлекая их из архивов моей памяти. Я уже не в первый раз это делаю, и пока что никто меня за руку не хватает.
Однажды мы сидим с Эльдаром, и он мне говорит: «Мне так хочется какой-нибудь яркий предсмертный финал. Я вижу море, птиц и бегущего Андерсена». Вроде студенческого задания во ВГИКе. И Эльдар стал говорить о каких-то чайках. А я вспомнил, как был на океанском побережье в Калифорнии. В шесть утра просыпался мой эфиопский внук, лез ко мне и будил — пока его родители спали в меру своей родительской лености. И вот, я сажал полуторагодовалого внука к себе на плечи, и мы бродили по пустому калифорнийскому пляжу. Утром поднимался густой туман, и из этого тумана на нас выплывали огромные пеликаны. Огромные пеликаньи головы глядели на нас, а мы — на них. Так проходил день, два, неделя, месяц. Не знаю, как пеликанам, а нам это очень нравилось. Но однажды я наступил на пеликанье яйцо, и оно с треском лопнуло под моим ботинком. И тогда случилось страшное. Мирные, любопытные и, в общем-то, дружелюбные пеликаны с ненавистью бросились на нас. Из таких больших ленивых птиц они в одну секунду превратились в страшных воинов. И было их, наверное, штук сто. А носы у них — такие огромные каменные клювы, они страшно гудят, шипят. Когда сто пеликанов шипит — это зловещее зрелище. Что с нами было! «Бежали робкие грузины».
Берег моря. Сперлонга. Натура.
Солнце садилось. Измученный Андерсен спустился к морю. Он бесцельно двигался по пустынному песчаному берегу. Страшные картины возникали в его мозгу.
Ганс Христиан в своем воображении видел, как планирует вниз на океанское дно накренившийся гигантский корабль. А на его фоне, в воде, опускалось тело Генриетты. Ее глаза были открыты, казалось, она что-то хочет сказать.
Трагическое лицо Ганса Христиана. Он тяжело шел по песку, с трудом передвигая ноги. Вот он прошел мимо колонии пеликанов, огромных птиц с гигантскими клювами, казавшимися мраморными. Птицы были большие, некоторые из них достигали в высоту до полутора метров, то есть были такого же роста, как и человек. Птицы громкими гортанными звуками что-то говорили друг другу и со смирным любопытством глядели на одинокого путника.
Сзади виднелись Сперлонга, взгромоздившаяся на вершину горы, и крепость над морем, охраняющая город.
Андерсен шел по пляжу, ничего не видя вокруг себя. И вдруг раздался треск. Довольно громкий. Андерсен вздрогнул, посмотрел под ноги и увидел, что он только что нечаянно раздавил огромное птичье яйцо. Скорлупа валялась около его башмаков, а из нее вытекал желток. Ганс Христиан смотрел на невольно совершенное им черное дело. Он услышал за спиной зловещее шипение. Андерсен обернулся и увидел, что на него двигался разъяренный гигантский пеликан, взбешенный гибелью будущего птенца. За ним, подстраиваясь к лидеру, приближалось еще несколько жутких птиц. Их намерения были очевидны. Они бешено шипели. Мраморные клювы, словно кинжалы, угрожающе нацелились на Ганса Христиана. Андерсен похолодел от ужаса. И побежал. За ним побежали, переваливаясь с боку на бок, грозные огромные птицы. Андерсен оглядывался назад, пеликаны не отставали. Их кинжалы рассекали воздух, чудовищное шипение становилось все громче и громче и переходило в рев. Сердце писателя изо всех сил колотилось в грудной клетке. Ужас обуял его. По морскому берегу мчался высокий длинноносый человек, а за ним гнались кошмарные длинноносые птицы. Постепенно пеликаны стали отставать, а Ганс Христиан, на карачках вскарабкавшийся в гору, свалился на траву. Он видел, как внизу колобродили возмущенные пеликаны, но у него уже кончились все силы. И он потерял сознание…
Железнодорожник Шалва
Я листал биографии Андерсена за тот период, когда он окончил университет. Он много писал, но был еще никому не известен, жил без денег, впроголодь… И мне вспомнилось: я ведь в его возрасте тоже носил по редакциям свои рассказы; первым моим местом работы была газета «Молодой сталинец». Там попадались совершенно одиозные и притом невероятно колоритные персонажи, которые пачками приносили свои рассказы и стихи. Помню, некий железнодорожник Шалва все время заваливал нас проектами всемирного разоружения. Он говорил, что рядом с редакцией есть овраг и надо сложить туда все оружие мира и залить его сверху серной кислотой. Он даже приводил математические расчеты, из которых следовало, что все оружие мира как раз поместится в этот чудесный овраг. Схемы вырисовывал: вот в этой части оврага — вся артиллерия мира, в этой — все пушки и гаубицы… А самое замечательное, что все его проекты были в стихах. Причем стихи он писал цветными карандашами и рассылал всем главам мира — президенту Соединенных Штатов, королеве Англии, Брежневу, Хирохито… Мы ему устроили творческий вечер, даже сочинили ответные телеграммы от имени политических деятелей, тоже в стихах. Огромного роста, некрасивый… я его вспомнил, когда думал об Андерсене, и некоторые, очень небольшие эпизоды «втащил» в сценарий. Чем-то они очень схожи. Хотя вы, наверное, удивитесь: при чем тут этот поэт с его стихами о всемирном разоружении — и Андерсен?
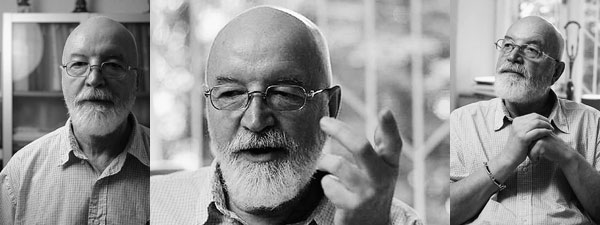
Гостиная мадемуазель Шалль
Только что вкусно отобедав у знаменитой балерины, в просторной гостиной расположилась компания, представлявшая собой художественную элиту датской столицы. Здесь и итальянский тенор Сиббони, назначенный недавно королевским указом директором консерватории, и балетмейстер театра француз Бурнонвиль, и адмирал Вульф, известный не столько морскими баталиями, сколько своими переводами на датский язык пьес Шекспира, и королевский советник, один из директоров театра Коллин, и композитор Вейзе, и поэт Баггессен. Все они с интересом воззрились на вошедшего долговязого, бедно одетого юношу со светловолосой пышной шевелюрой. Чем-то диким, необузданным веяло от него.
Мадемуазель Шалль: Как вас зовут, молодой человек?
Ганс Христиан: Ганс Христиан Андерсен (почтительно поклонился). У меня к вам рекомендательное письмо от господина Иверсена из Оденсе.
И Андерсен передал знаменитой танцовщице конверт.
Мадемуазель Шалль: Но я не знаю господина Иверсена.
Ганс Христиан: Зато он вас знает. Он видел ваше выступление в Оденсе. И я видел. Это было восхитительно.
Мадемуазель Шалль: А господин Иверсен — он кто?
Ганс Христиан: Печатник. Он печатал афиши вашего спектакля в типографии. А я расклеивал их в городе…
Мадемуазель Шалль (с иронией): Тогда другое дело…
Ганс Христиан: Вы божественно танцевали, мадемуазель Шалль!
Гости, снисходительно улыбаясь, разглядывали странного юношу. Хозяйка дома пробежала глазами письмо.
Мадемуазель Шалль: Сильные рекомендации! Господин Иверсен пишет, что вы гений и мечтаете стать артистом…
Ганс Христиан (напыщенно): Это правда! Я мечтаю умереть в театре!
Баггессен (пошутил вполголоса): Это лучшее, что вы можете сделать для театра…
Бурнонвиль: Для театра надо иметь талант.
Ганс Христиан: У меня их много. Могу показать вам, мадемуазель Шалль, как я, например, танцую…
Мадемуазель Шалль (жалобно): Может, не надо …
Ганс Христиан: Надо! Надо! Вы не пожалеете! Я покажу вам тот танец, который вы исполняли в Оденсе…
Гости развеселились, энергия молодости, наглости и наива заразила сытно пообедавших мужчин.
Сиббони: Давайте я поработаю аккомпаниатором. Что вы там танцевали? (спросил он у балерины)
Мадемуазель Шалль: Танец Ундины из балета Чезаре Пуни…
Сиббони заиграл мелодию. Ганс Христиан стал прыгать, выделывать рискованные антраша и даже прошелся на руках. Баггессен прикрыл собой стеклянный шкаф с дорогой посудой, не без оснований опасаясь за ее сохранность. Андерсен, кружа на одной ноге, сбил стул, тот покатился по паркету. Наконец он, чуть сам не упав, закончил свой балетный дивертисмент. Гости озадаченно молчали. Надо было бы выгнать нахального бездаря. Но… Не дав присутствующим опомниться, Андерсен продолжил демонстрацию своих талантов.
Ганс Христиан: А сейчас я прочту вам свою пьесу. Я недавно ее закончил. Герой пьесы — негр. Он душит жену из-за ревнивых чувств. Слушайте. Это сцена в спальне перед удушением. (декламирует):
Жена: Но ты меня пугаешь. Ты зловещ,
Когда вращаешь бешено глазами.
Мне страшно.Негр: О грехах своих подумай.
Жена: Единственный мой грех — любовь к тебе.
Ганс Христиан поворачивается вправо, когда говорит муж, и влево, когда говорит жена. При этом он меняет голоса с мужского на женский и наоборот.
Негр: За это ты умрешь!
Жена: Бесчеловечно
Отплачивать убийством за любовь.
Что ты кусаешь губы в исступлении?Негр: Где тот платок, подаренный тебе?
Адмирал Вульф (прерывает автора): Но это же Шекспир. «Отелло». Я переводил эту пьесу с английского на датский!
Ганс Христиан: Я не знал, что вы переводили, простите. Но я и сам знаю, что это Шекспир.
Адмирал Вульф: Так он уже эту пьесу написал. И раньше вас.
Ганс Христиан (восхищенно): Но эта такая прекрасная история, и я решил переписать ее еще раз. Своими словами. Но тоже в стихах…
Адмирал Вульф: Предположим. И вам кажется, что ваши стихи лучше, чем у Шекспира?
Возникает пауза. Андерсен озадачен. Видно, что подобная мысль не приходила ему в голову.
Ганс Христиан: Я не думал об этом. Слова Шекспира, может, лучше, чем мои. Но это пока. Вскоре я стану писать лучше Вильяма!
Адмирал Вульф (саркастически улыбается): Не сомневаюсь.
Коллин: Значит, вы еще и стихи пишете…
Ганс Христиан: Разумеется. Я уже много написал. Вот, к примеру… (намеревается читать еще) Небольшая поэма…
Вейзе: Юноша, мы верим, но читать больше не надо.
Мадемуазель Шалль: Может, вам пойти на кухню, перекусить?
Ганс Христиан: Я не голоден.
Мадемуазель Шалль: Не надо врать, молодой человек. У вас на лице написано, что вы давно не ели. Элиза (позвала служанку хозяйка), отведите господина Андерсена на кухню и покормите его.
Ганс Христиан: Но я еще многое умею! Я могу свистеть… изображать крики ужаса… делать представления с куклами, я могу…
Андерсен прилагал все силы, чтобы вырваться из цепких рук служанки, которая тащила его в кухню, но это ему не удалось. Победила Элиза…
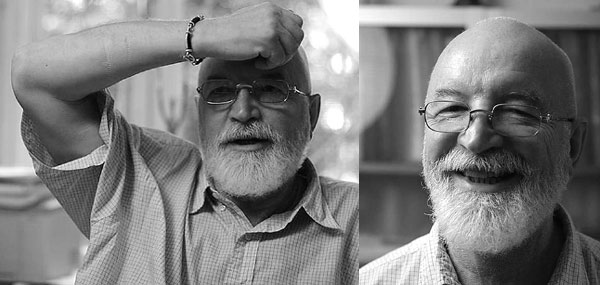
Бог деталей
Когда я думал, с чего начать сценарий, то вспомнил свою русскую бабушку Катерину Григорьевну Бухарову. Она жила в Грузии, вышла замуж за грузина, прекрасно говорила по-грузински, но все равно это была русская бабушка, причем очень набожная. Я с ней проводил все лето в деревне. А деревня наша стоит на пригорке, и над ней нависает изрядно высокая гора. И бабушка мне говорила, что на этой горе живет бог. Но не тот, главный Бог, а местный бог, поэтому к нему в любое время можно пойти. Я все время жаждал увидеть этого бога. Гора была не снежная, хотя и довольно высокая — мне так казалось, — и какая-то тропа туда действительно вела. Я приставал к бабушке и спрашивал: «А какой он?» И она рассказывала, что бог сидит на табуретке, рядом с ним бутыль вина, а в руках у него бинокль, и он смотрит на каждого из нас. Что он пьет вино, всех вокруг опекает и все про всех знает. Она обещала, что мы к нему пойдем. И мне часто снилось, как мы к нему идем. Во сне мне мерещилось, что идет дождь, а над ним одним дождя нету. А сам он — обыкновенный, в затертом пальто, чуть ли не в калошах. И что идти к нему надо только с какой-нибудь очень важной просьбой. Я даже список составлял.
Смирительный дом. Декорация.
Они подошли к мрачному безликому зданию, окруженному каменной стеной. На ней, словно черные кляксы, сидели вороны. Привратник, смахивающий на апостола Петра, отворил скрипучие железные ворота, бабушка с внуком очутились во дворе, тоже каменном, где гуляло несколько человек в серых рубахах и халатах. Мальчик с интересом разглядывает их, ощущая некую странность в их движениях.
Мальчик: Это и есть смирительный дом?
Бабушка: Да… подожди меня здесь. Я найду дедушку.
Мальчик, оставшись один, пошел в глубь двора, продолжая рассматривать людей. Один мужчина маршировал, громко командуя сам себе «кругом». Другой, стоя на четвереньках и опустив нос до каменного пола, толкал им куриное яйцо.
Кто-то позвал мальчика.
Голос: Мальчик, подойди сюда!
Оглянувшись, мальчик заметил бородатого мужчину, сидящего на скамье под единственным деревом двора. На нем была холщовая рубаха, на щеках щетина. На голове красовался проволочный нимб. Мужчина улыбнулся, улыбка была доброй.
Мужчина с нимбом: Как тебя зовут, малыш?
Мальчик: Ганс Христиан Андерсен.
Мужчина с нимбом: Подойди ко мне, я тебя поцелую.
Ганс Христиан доверчиво приблизился.
Мужчина с нимбом погладил маленького Андерсена по голове, затем поцеловал в лоб.
Мужчина с нимбом: Запомни, тебя поцеловал сам Господь Бог! Ты станешь великим человеком, тебя узнают все люди на Земле…
Лицо у Ганса Христиана было длинное, узкое. На нем выделялись лучистые глаза и несоразмерно большой нос.
Ганс Христиан: Дяденька, вы Бог?! Тот самый? …
Он показал пальцем в небо. Мужчина скромно кивнул.
Ганс Христиан: Вы тот, которому я молюсь каждое утро перед завтраком?
Мальчик продолжал сомневаться.
Мужчина с нимбом: Молись мне и днем, когда садишься обедать, и вечером перед ужином.
Ганс Христиан: А у нас дома обед не каждый день. И ужин тоже не каждый…
Мужчина с нимбом: Молись с сердцем, тогда и обед будет. И ужин. И сладкое. Я люблю сладкое…
Ганс Христиан: Я тоже (недоверие снова закралось в душу Ганса Христиана). А почему вы здесь, а не там — на небе?!
Мужчина с нимбом (огорченно): Не веришь?!
(Он возвел руки к небу и торжественно провозгласил): Да будет дождь!
Тут же раздался удар грома. А через секунду с неба на землю обрушился ливень. Но какой!
Все обитатели смирительного дома, спасаясь от вселенского потопа, побежали внутрь.
Наш Андерсен
В своей автобиографии Андерсен все время описывает, какие он ордена получил, какие медали. Ему были очень важны эти признания его заслуг, всевозможные побрякушки. А еще он без конца рассказывает, что, вот, сейчас обедал с герцогом таким-то, а через два дня будет обедать с князем таким-то, а потом поедет к королю такому-то. Из этого-то и состоит вся его автобиография. А мы от нее отказались и сделали другую — плотную, жесткую и в то же время романтическую.
Конечно, мы его полюбили. Эльдар вообще без памяти влюблен в Андерсена: и в его жизнь, и в его сказки. Именно поэтому всякой слащавости мы избегали как могли. Во времена Андерсена, видимо, считалось, что раз он пишет сказки, то и биография у него должна быть сказочная. Естественно, мы не собирались иронизировать по его поводу, не думали его осуждать, хотя и не скрывали неуравновешенность его характера, едкость, ранимость. Он был, например, очень несправедлив к своей сестре: она стала проституткой и просила у него помощи, а он ей отказал. Вообще ее не признал. Мы не делаем из него идеального человека. Он был идеален лишь в своих сказках.
Смирительный дом. Декорация на натуре
Наш герой приблизился к каменной стене, за которой виднелось безликое здание. На кольях забора, словно черные кляксы, сидели вороны. Андерсен постучал в ворота. Привратник, смахивающий на апостола Петра, отворил створку.
Привратник-апостол: Входи, Ганс Христиан.
Андерсен: Здравствуйте. По-моему, я был здесь в детстве. Это смирительный дом?
Привратник-апостол: В каком-то смысле да! Тут смиряются человеческие страсти и желания.
Андерсен: Это мой последний приют?
Привратник-апостол: Это не мне решать, а Ему. Но в таком виде негоже представать перед Ним…
И привратник сделал движение рукой. И вот с Андерсена слетел его парадный сюртук, увешанный орденами, исчезли нарядные башмаки с пряжками, франт оказался стариком, облаченным в простую домотканую рубаху.
Привратник-апостол (показал направление): Проходи!
И босой Андерсен направился к скамейке на берегу моря, где сидел его старый знакомый, который поцеловал его в лоб, когда он был малышом, в самом начале нашей истории.
Андерсен подошел к скамейке и глубоко поклонился.
Человек с добрым лицом: В твоей жизни было много суеты и тщеславия. Твое честолюбие оказалось чрезмерным, а излишество вредно во всем, даже в добродетели. Ты стыдился среды, из которой вышел, ты отвернулся от матери своей, отрекся от сестры…
Андерсен (соглашаясь): Да, это моя вина! Мой огромный грех…
Человек с добрым лицом: Ты преклонялся перед властителями. (Он поправил проволочный нимб вокруг головы) Был ослеплен королевской мишурой…
Андерсен: Это правда! Я виноват и стыжусь этого.
Человек с добрым лицом: Ты был самолюбив и заносчив, бывал жестоким. Ты эгоистичен и скуп…
Он продолжал перечислять вины сказочника обыденным голосом, как строгий, но справедливый судья.
Андерсен: Я признаю свою вину, мне стыдно…
Человек с добрым лицом: Но тем не менее я не жалею, что поцеловал тебя в детстве. (Неожиданно пространство между лицом и нимбом говорившего озарилось серебристым сиянием). Ты искупил свою вину на земле тем, что страдал и не озлобился. Чувства ожесточения и мстительности были чужды тебе. Да, ты не любил отдельных личностей, но ты любил род людской. А человечество такое несовершенное, слабое, кровожадное и глупое… Но это уже моя ошибка… Твои творения сеяли добро в людях, и они ответили тебе любовью и почитанием. Я прощаю тебя. Ибо тебя, Ганс Христиан, никогда не покидала Вера. Пусть смятение и страсти утихнут в твоей груди, пусть забудутся страдания и обиды… (Он немножко помолчал и неожиданно добавил.) А все-таки ты дурак, Андерсен, что прошел мимо такого чуда, как любовь женщины. Тут я тебя, как мужчина, не одобряю…
Читайте также
-
Достигнув моря, нелегко вернуться
-
Два дня хорошей жизни
-
«Помню пронзительно чистое чувство» — «Тарковский и мы» Андрея Плахова
-
«Большие личности дают тебе большую свободу» — Разговор с Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной
-
Высшие формы — «Прощайте, люди!» Анны Климановой
-
Пассивной юности мудборд — «Здравствуй, грусть» Дурги Чю-Бозе







