Мохсен Махмальбаф: «В конце тьмы всегда происходит революция»
«Президент» снят в Грузии, с грузинскими актерами, почти полностью на грузинском языке и вообще похож на грузинское кино, в первую очередь на «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Это архаичная, но любопытная в современном контексте, притча про диктатора неназванной страны, который, внезапно потеряв власть, вынужден вместе с внуком скрываться от преследователей, постепенно проникаясь проблемами людей, которых годами мучил.
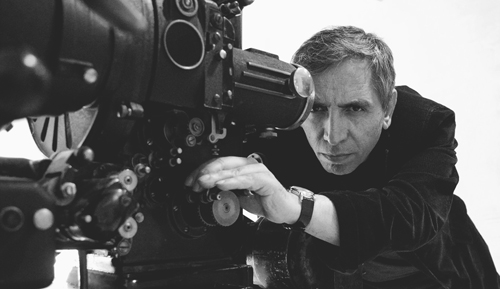
Мохсен Махмальбаф
— Вы снимали в Грузии. Хорошо ли вы знакомы с грузинским кино?
— Да, я знаю грузинские фильмы, я их смотрю. Только что рекомендовал фестивалю в Пусане сделать ретроспективу. Я снимал в той стране, в которой мог снимать. Казахстан? Узбекистан? Таджикистан? Иран? Это невозможно. Я поехал в Грузию за свободой, и я счастлив: там отличные актеры, прекрасная природа. Но в Грузии все время зелено, и я ждал холодов, потому что хотел более мрачных оттенков.
— При всей своей притчевости «Президент» выглядит актуальным комментарием к событиям последних лет.
— Впервые я подумал об этом фильме восемь лет назад, когда был в Афганистане и заезжал во дворец [Амина]. Оттуда можно видеть весь город (или контролировать весь город). Я вдруг представил могущественного президента, который по вечерам развлекает своего внука отдавая приказ включить и выключить свет во всех домах. С этой сцены в итоге начинается фильм. Игра со светом и тенью всегда меня завораживала, и здесь она становится метафорой: диктатура погружает страну во тьму, а в конце тьмы всегда происходит революция.
Я сел за сценарий. Поначалу действие происходило в Афганистане, но после «арабской весны» и революции в Иране текст пришлось несколько раз переписать. Я был раздавлен тем, что происходит в Сирии, в Ливии, в моей стране — везде было одно и то же: диктатура, угнетение народа, потом революция, снова угнетение и опять диктатура. Когда мы снимали, стало известно, что президент Украины в своем лимузине бежал в аэропорт, точно так же, как у меня в сценарии. Почему руководитель страны бежит в аэропорт в лимузине? Потому что час назад он обладал абсолютной властью, а теперь утратил ее. Видите, везде одно и то же — поэтому я решил убрать конкретику. Мне хотелось поговорить о природе человека, потому что диктатор — тоже человек, и он родился невинным. Когда президент играет на гитаре, когда рядом с ним внук, мы понимаем, что когда-то он тоже был пятилетним мальчиком, а потом получил власть и стал другим — тем, кто считает, что имеет право распоряжаться чужими жизнями. Мой фильм — критика насилия, которое осуществляет диктатор, и насилия, которое творит революция. И главный вопрос: что мы можем сделать для своего будущего? Диктаторы не уходят по своей воле, их приходится выкорчевывать, а это значит, что маховик насилия не остановить. История знает двух непротивленцев: Ганди и Манделу — в конце пути. Но их недостаточно.
— Главный герой, президент, кажется скорее положительным персонажем, чем отрицательным — милый дедушка, любит своего внука.
— Нет. Он глуп и слаб с самого начала: его лимузин приветствует толпа, а внутри ссорятся
дочери, и он ничего не может с этим поделать. Но потеряв власть, он постепенно начинает осознавать последствия своих поступков, о которых не думал раньше. Он смотрит, как его солдат насилует невесту, он видит, как ровесники его внука работают на фабрике в ужасных условиях, он видит нищий публичный дом — это система, которую он создал. Он несет на себе политического заключенного с перебитыми ногами, он становится свидетелем того, как убивает себя диссидент, чья жена вышла замуж, пока он был в тюрьме. Мы видим тень сожаления не его лице. Человек может вернуть себе невинность, если захочет.
— Солдат, который насилует девушку, вроде бы за революцию, а не за президента.
— Оглянитесь по сторонам. Диктатура — это не один человек. Уберите тирана, и вы увидите, как солдаты диктатуры становятся солдатами революции. На следующий день после переворота они салютуют новому вождю. Я снимал «Салям, синема», несколько сотен людей пришло на кастинг, они сломали двери — так хотели попасть в кино. Я попросил двоих из них стать режиссерами, и даже эта ничтожная власть вдруг превратила их в диктаторов.

Президент. Реж. Мохсен Махмальбаф, 2014
— Расскажите про Дачи Орвелашвили — мальчика, который играет внука.
— Было сложно его найти — нашли через фейсбук, пятилетнего, но он, конечно, делал вид, что ему больше. Он очень талантливый и может стать большим артистом. С ним работала моя младшая дочь Хана, режиссер фильма «Будда рухнул от стыда» (2007), она умеет работать с детьми. Много репетировали: если ему нужно было плакать, она плакала с ним. За год до съемок у него погиб папа — полез чинить крышу и упал. Как только мы встретились, я заметил, что у него происходит замещение, именно поэтому я позвал Хану: понял, что через несколько месяцев мы расстанемся, и он потеряет отца во второй раз.
— Вы уехали из Ирана. Есть шанс, что вы снимете об Иране еще один фильм?
— Только в другой стране, где есть похожие ландшафты. Несмотря на то, что я немолод, если я вернусь в Иран, то буду убит. С меня довольно: меня травили ядом, на съемках взорвали бомбу — там было 200 человек массовки, десятилетний мальчик получил 40 ранений. Уже в Париже нам подсылали террористов, я узнал, когда французы приставили ко мне охрану: их разведка донесла, что приехали по мою душу (я спросил, кто именно, но мне не сказали). Моя жена не могла поехать в Иран, даже когда умирали ее родители. Пять лет назад моя дочь поехала туда на фестиваль, и ее взяли в заложницы. Арестовали мужа, давили на него, требовались развестись. Все это происходит не только с моей семьей. Мужа Ширин Эбади, лауреатки Нобелевской премии мира, тоже удерживали, заставляли выступать на телевидении и рассказывать про жену ужасные вещи. Пару недель назад иранского журналиста убили в Турции. Я не могу поехать даже в Дубай, даже в Азербайджан — они похищают людей в сопредельных государствах. В Газе, в Ливане, в Южной Корее. Двести восемьдесят иранских журналистов, писателей, поэтов, художников было убито за границей. Их толкают под поезда, толкают в воду, перерезают глотки. В самом Иране каждый месяц кого-то сажают в тюрьму: на этой неделе документалистов, на следующей — журналистов. Это такая игра, которая позволяет сохранить контроль: арестовать, выпустить, опять арестовать: это дезориентирует, человек не знает, что ему позволено, а что нет.
— Даже в эмиграции вы продолжаете оставаться голосом иранского кино. Нет здесь противоречия?
— Пять миллионов иранцев уехало за границу, не только я. Я делаю фильмы для международной аудитории. Мне кажется, между людьми почти не существует различий. Когда ты влюбляешься, ты влюбляешься как иранская женщина. Когда ты плачешь, ты плачешь, как палестинка. Когда ты чего-то хочешь, ты хочешь этого также сильно, как хотят люди в Польше. Разница — только в языке и некоторых культурных особенностях. Но что такое культурные особенности? То, как люди воспринимают, понимают некоторые вещи, но чувствуют-то они всегда одинаково.
Я снимал кино в десяти странах, на разные темы и по разным причинам. Мой предыдущий фильм, «Садовник» (2012) сделан в Израиле и посвящен бахаизму — религии, возникшей в Иране 170 лет назад. Бахаисты считают, что все люди равны. Их семь миллионов по всему миру, несколько тысяч живут в Иране, но они не могут поступать в университеты и занимать государственные должности, потому что они не мусульмане. Их убивают, запугивают, сажают в тюрьмы. Еще один мой фильм, документальный («Афганский алфавит», 2002 — прим. ред.) посвящен детям афганских беженцев в Иране, которых несколько лет не принимали в школы. Это было еще до Ахмадинежада, мы сделали кино, и полмиллиона детей смогли почти учиться. Каждый из тех, кто снимает кино в Иране — голос иранского кино.
Есть иранское стихотворение: «Правда — зеркало в руках Бога, оно упало и разбилось, каждый из людей взял по осколку и уверовал, что завладел всем зеркалом, всей правдой». Но она не может быть у кого-то одного — она у всех. Мы должны делиться своими взглядами на реальность. Это долг иранских кинематографистов. Кино в нашей стране — то, что противостоит фундаментализму, догматизму. Чтобы построить демократию, надо заниматься образованием людей, надо делиться своим взглядом на реальность, чтобы менять ее.
Есть еще одно стихотворение, ему семьсот лет: «Все человечество — единое тело, если болит какая-то часть, ты весь чувствуешь боль, но если ты не чувствуешь ничего, когда больно другому, то ты тогда не человек».
Читайте также
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой







