Любовь к мелодраме. Российский случай
Пока не отгремел прокат эмоциональных кинокачелей «Да и да», «Сеанс» решил поговорить о мелодраме. Почему в России так любят душещипательный жанр и где искать истоки страсти к жестокому романсу? В литературной истории вопроса разбирается Светлана Адоньева.
Под словом «мелодрама» понимаются разные вещи. Если мы откроем словари, то увидим, что определения разнятся и в них. Я приведу одно из самых простых определений и дальше буду объясняться. Итак, первое значение слова «мелодрама» — пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально поучительной тенденцией. Жанр возник в конце 90-х годов XVIII века во Франции, то есть во время Французской революции. Достиг наибольшего рассвета в 30–40-е годы XIX века. В России появляется с конца 20-х годов XIX века: сначала появлялись переводные французские мелодрамы, потом появились отечественные мелодрамы (Кукольника, Полевого и других). Мелодрама размещает своих персонажей в критической ситуации с целью вызвать эмоцию1. Язык, поведение и события, характерные для мелодрамы, принято называть мелодраматическими. Мелодрама предполагает определенные характеры: герой, женщина в бедственных обстоятельствах — damsel in distress, злодей и (или) злодейка, старый родитель и старый слуга, наперсник или наперсница. Положительный, но не очень сообразительный герой идет на поводу замыслов злодея, имеющего виды на damsel in distress, до тех пор, пока не вмешивается судьба и все не завершается триумфом победы добра над злом2. По приведенному мной описанию, предложенному Кэролайн Вильямс для английской мелодрамы викторианской эпохи, нетрудно определить форму произведений, хорошо нам известных: «Царская невеста» Римского-Корсакова со злодеем Грязным, старым родителем Собакиным и женщинами в бедственных обстоятельствах (драма Л.А. Мэя, первая постановка — 1899 год), «Пиковая дама» Чайковского (постановка 1890 года)…
Благодаря авторам либретто, по чьей мелодраматической воле Лиза бросилась в воду, Зимняя канавка стала «пушкинским местом» Петербурга. Я помню, что финал пушкинской «Пиковой дамы», когда я прочла ее в школе, ввел меня в замешательство: я знала о том, что Лиза утопилась, еще до того, как научилась читать. Фильм-оперу «Пиковая дама» (1960, реж. Роман Тихомиров) с красавцем Олегом Стриженовым многократно показывали по телевизору.
Итак, первое значение слова «мелодрама» — название драматургического жанра.
Второе определение мелодрамы связано со словами «мелодраматизм» или «мелодраматичность». В Словаре иностранных слов, вышедшем в начале XX века (в 1909 году) под мелодраматизмом понимаются «неестественность в выражении чувств, преувеличенная трогательность, невероятные происшествия, непостижимые страсти, ужасные убийства и всякий неожиданный ужас, представляемый на театральной сцене»3. Толковый словарь 2000 года ненамного развивает это определение: «преувеличенная эмоциональность, противопоставление добра и зла, свойственное мелодраме»4.
Тем не менее, слово это мы слышим часто, и обычно оно предполагает негативную оценку поведения или рассказа, которые представляются чрезмерно аффектированными. Правда, существует жанр мелодрамы в кино, в отношении которого такой специальной интонации нет.
В более широком значении слово «мелодрама» употребляется в кино- и театральной критике, преимущественно американской5. Я имею в виду, в первую очередь, работу Питера Брукса о мелодраматическом воображении (она была опубликована в 1976 году и позже переиздавалась6), а также работы Джона Мерсера и Мартина Шинглера7 и уже упоминавшейся выше Линды Вильямс8. Эти критики говорят о том, что мелодраму следует рассматривать как особую модальность, а мелодраматизм может проявляться в произведениях самых разных жанров. Появление такой интонации, такого восприятия мира они связывают с переживанием его неустойчивости и обращают внимание на то, что эта модальность появляется в совершенно определенное время: во Франции в кризисную эпоху Французской революции9.
В своем дальнейшем рассуждении под мелодрамой я буду понимать именно мелодраматическую модальность. То есть не жанр, а нечто более широкое, особый способ восприятия жизни, который мелодрама аккумулирует. Для того чтобы перейти к тому материалу, о котором я хочу рассказать, мне нужно ввести два значимых в этом контексте теоретических положения. Они связаны с пониманием исторического процесса.
Благодаря советской школе все знали, что существуют общественно-экономические формации, которые состоят из экономического базиса (производственные силы и производственные отношения) и идеологической надстройки (культура, наука, религия, искусство и пр.). Одна формация последовательно сменяет другую: первобытно-общинный строй сменяется рабовладельческим, тот — феодальным, за ним следует капиталистический, социалистический и, наконец, — триумф коммунизма в конце времен. Мы знали, что смена формаций происходит диалектически, по Гегелю: единство и борьба противоположностей, количество переходит в качество… Так от одной формации к другой мы и следуем. В структуру формации, как нас учили, входят не только экономические, но также и социальные отношения: отношения между социальными группами и народностями, формы быта, семьи и образ жизни10. Наше общее знание располагает именно такой конструкцией социальной истории. Эта модель досталась нам от советского школьного образования.
Понимание истории, предложенное Фернаном Броделем (1904−1985) в книге о цивилизации исторической Европы (русский перевод первого тома — 1986 год, тогда она и попала мне в руки), было для меня счастливым открытием11, поскольку концепция общественно-экономических формаций не объясняла того, что мы наблюдали в русской деревне. Я фольклорист, я занимаюсь русским фольклором, и, соответственно, я знаю, что русское крестьянство в своих представлениях и практиках конца XIX — начала XX века в большей степени было похоже на шаманистские бесписьменные культуры Сибири и Америки, чем на культуру, например, поздней античности. Хотя русское крестьянство, от которого записывали классический фольклор, существовало при капиталистической формации, а древняя Греция и Рим — на две формации раньше. Видение истории, которое предлагал Фернан Бродель, объясняло то, что было для меня необъяснимым. Можно представить себе эту модель через метафору. Представим историю как океан, в котором есть разные уровни, разные пласты, скорость движения воды в этих разных пластах различна. Поэтому, если мы берем какую-то точку, конкретную точку времени, и смотрим на то, что происходит, то мы можем видеть через прозрачную толщу воды синхронно вещи, которые характеризуются разными длительностями, разными скоростями протекания. Так, например, политическая история меняется очень быстро, она — на поверхности воды. А институт семьи меняется очень медленно, он — на другой глубине. Все подвержено изменению, но принцип протекания процессов (подъемы, бифуркации, плато), а также их темп на разных уровнях социальной жизни — различны.
Мы знаем, что в России способы обработки земли меняются мало, они существуют в медленном времени. Именно поэтому мы можем наблюдать не то что плуг, но даже и деревянную соху в XXI веке, не в музее, а на поле. Мы, конечно, можем потрясать руками и говорить, что мы очень отсталые, но, говоря, что мы отсталые, мы исходим из модели общественно-экономических формаций. У нас есть идея, что главное — изменение в сторону развития, прогресс, и в этом потоке можно не успеть, отстать. А здесь речь о другом. Разные типы практик и отношений существуют одновременно: можно быть физиком, заниматься теорией суперструн — и жить в патриархальной семье; можно помогать родителям, вывозя картошку, которую они вырастили на своих сотках для собственного потребления, то есть участвовать в практиках натурального дообменного хозяйства — и заниматься, например, финансовыми рынками.
Итак, первое положение, необходимое нам для разговора о мелодраматическом, заключаются в следующем: формы социальной жизни не находятся в прямой причинной зависимости от экономики и типов производства и не изменяются одновременно с ними.
Второе теоретическое положение, которое необходимо ввести, — понятие ментальности.
Слово «ментальность» — из французского языка и французской исторической науки. Я воспользуюсь определением, которое предложил Арон Яковлевич Гуревич (1924−2006), историк-медиевист, который ввел это понятие в российский научный дискурс: «Постановка вопроса о социально-культурных представлениях людей другого времени и есть центральная задача истории ментальностей. Она отличается от социальной психологии тем, что сосредоточивает свое внимание не на настроениях, конъюнктурных, легко изменчивых состояниях психики, а на константах, основных представлениях людей, заложенных в их сознание культурой, языком, религией, воспитанием, социальным общением. К подобным представлениям относятся, в частности, восприятие пространства и времени и связанное с ними осознание истории (поступательное развитие или повторение, круговорот, регресс, статика, а не движение, и т. п.); отношение мира земного с миром потусторонним и, соответственно, восприятие и переживание смерти; разграничение естественного и сверхъестественного, соотношение духа и материи; установки, касающиеся детства, старости, болезней, семьи, секса, женщины; отношение к природе; оценка общества и его компонентов; понимание соотношения части и целого, индивида и коллектива, степени выделенности личности в социуме или, наоборот, ее поглощенности им; отношение к труду, собственности, богатству и бедности, к разным видам богатства и разным сферам деятельности; установки на новое или на традицию; оценки права и обычая и их роли в жизни общества; понимание власти, господства и подчинения, интерпретация свободы; доступ к разным видам источников и средств хранения и распространения информации, в частности, проблемы соотношения культуры письменной и культуры устной»12.
Приведенный ученым обширный перечень представлений и практик растворен в обыденном мировосприятии. Люди, живущие в той или иной ментальности, воспринимают то или иное качество жизни как присущее миру, присущее реальности, а не своему знанию о ней. Историки, изучая другие времена и реконструируя жизнь по историческим текстам, выявили, что люди разных эпох и сообществ живут в разных реальностях. И что эти разные реальности связаны с теми типами культур (слово «тип» даже слишком строго), с теми привычками понимать, любить, выбирать, обмениваться, умирать, хоронить и так далее, к которым люди принадлежат. Эти «привычки» и объединяют людей в общности.
Как пишет американский философ Дж. Сёрль, существует заданная нам заранее повествовательная «форма для упорядочивания опыта… Я располагаю определенными сценариями ожиданий, которые позволяют мне взаимодействовать с людьми и предметами, меня окружающими». Такие сценарии включают «то, как все будет происходить, когда я отправлюсь в ресторан, или… женюсь и буду создавать семью… Ларошфуко заметил как-то: мало кто влюбился бы, если бы никогда об этом не читал»13.
Представляя в методологическом смысле то, что на материале европейской цивилизации описывает Бродель, Гуревич отмечает: «В исторической науке произошел переход от понятия «монолитное время событийной истории» и хронологических таблиц к понятию «спектр социальных времен», включающему как «время большой протяженности», время стабильных социально-экономических образований, так и время более быстрых изменений, вплоть до краткого, «нервного» времени событий. Этот переход сопровождался сосредоточением внимания ученых на времени медленных, подспудных изменений. Именно на этом уровне изучается история ментальностей, ибо они отличаются чрезвычайной стабильностью, изменения их делаются заметными лишь при рассмотрении больших отрезков истории»14.

muzhiki_baby 001
Процесс опознания «ментальностей» начался в первую очередь в исторической науке, и значительно раньше, чем он достиг российских территорий. Это понятно, потому что подобное представление об истории отличалось от ортодоксального советского, выстроенного на концепции общественно-экономической формации. Исторические труды, посвященные ментальностям, в 1980-е годы стали публиковаться в Советском Союзе и потом в России, но написаны они были много раньше. Одна из самых первых таких работ — книга Йохана Хейзинги «Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах». Она была опубликована в 1919 году, первое русское издание — конца 1980-х годов15.
Для того чтобы дать представление о способе описания жизненного уклада позднего Средневековья, созданном Хейзингой, приведу один небольшой пассаж об отношении к смерти: «Если траурные обряды и скрывали в себе какие-то древние представления о табу, их живая культурная ценность состояла в том, что они облекали несчастье в форму, которая преобразовывала страдания в нечто прекрасное и возвышенное. Боль обретала ритм. Реальная действительность перемещалась в сферу драматического, становясь на котурны. В более примитивных культурах, как, скажем, в ирландской, погребальные обряды и поэтические погребальные плачи все еще представляют собой единое целое; придворные обычаи траура бургундских времен также можно понять, лишь если рассматривать их как нечто, родственное элегии. Траур всей своей пышностью и великолепием формы призван был подчеркивать, сколь бессилен был пораженный скорбью. Чем выше ранг, тем более героическим должно было выглядеть изъявление скорби. Королева Франции в течении целого года должна оставаться в покоях, в которых ей передали сообщение о смерти ее супруга. Для принцесс этот срок ограничен шестью неделями»16.
Назову еще одно имя: Марк Блок. С его именем и научным наследием связана сложившаяся во второй половине прошлого века французская историческая школа, получившая вслед за журналом, который в 1930-е годы издавали Марк Блок и Люсьен Февр, название «школа «Анналов”»17. Марк Блок погиб во время войны. Его книга «Апология истории, или Ремесло историка» вышла во Франции в 1949 году18.
В СССР к исследованиям, сделанным в том же ключе, можно отнести выдающуюся работу М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Она была написана им во время войны, в 1945 году он подал ее как диссертацию, но ее публикация состоялась только в 1965 году.
Как я уже сказала, мне нужны для дальнейшего изложения два общих положения. Одно состоит в том, что существует такая вещь как ментальность — манера чувствовать, думать и вести себя определенным образом. Она обусловлена тем социокультурным багажом, которым нас наделили, и той социальной средой обитания, в которой мы существуем. Ментальность и сложно связная с ней жизненная практика не производны ни от экономики (типа производства), ни от биологии. Очень часто то, что может быть расценено как свойство человека как вида, при межкультурном сравнении оказывается лишь свойством ментальности, свойством принятых в обществе установок. Как пишет современный историк Отто Герхард Эксле, «человек постоянно действует в контексте наличествующих в культуре, исторически опосредованных форм «жизненного уклада», которые открываются ему как «объективно данные», будучи предзаданы культурой и тем самым исторически обусловлены, и которые он в то же время должен заново индивидуально приспосабливать к себе и заполнять, однако он может также и перетолковывать их, трансформировать и даже отвергать. Это диаметральное противостояние — культурной предзаданности и все время обновляющегося индивидуального освоения, переосмысления или неприятия — создает динамику жизни индивидов и групп, создает то, что называется историей»19.
Для меня очень важно то, что ментальности — не приговор. Они существуют во времени, и мы можем либо соответствовать той или иной ментальности, либо не соответствовать ей, находясь в иных ментальностях. То, что разные культуры не совпадают в ментальностях, в общем, достаточно очевидно: культуры, как принято говорить, отличаются по менталитету. Но важно понять, что менталитет — это не национальный признак, и не врожденный признак, нас причинно определяющий, и не общечеловеческий признак, а некий, скажем так, территориально-исторически-культурный признак: он существует в определенном времени и на определенном пространстве, имеет начало и имеет свое завершение.
Я полагаю, что мелодраматическая модальность — это не жанр и не стиль, а ментальность, внутри которой мы находимся. Далее я попробую на примерах показать, каковы свойства этой ментальности.
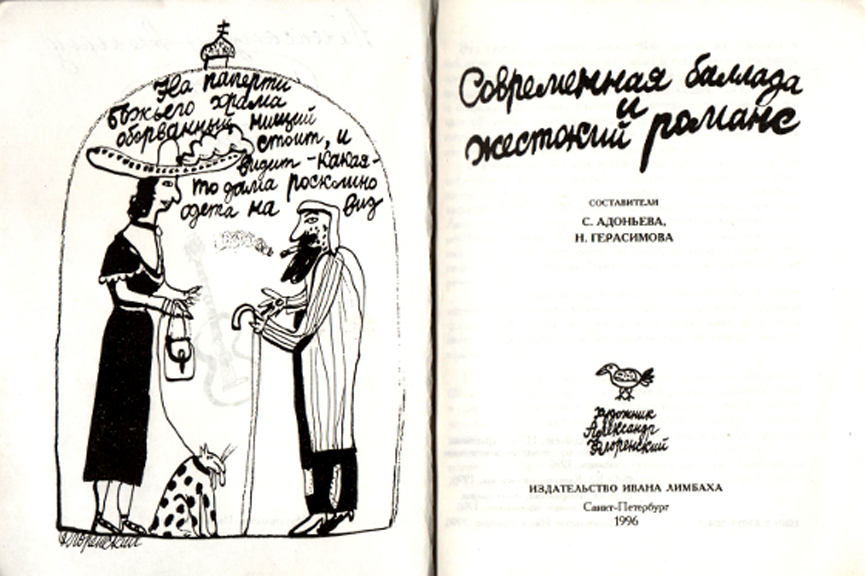
В 1996 году «Издательством Ивана Лимбаха» была выпущена книжка «Современная баллада и жестокий романс». В издание вошли тексты, которые мы (мои коллеги и я — фольклористы Петербургского государственного университета) записывали во время экспедиций в Вологодской, Архангельской и Псковской областях, а также песни, которые мы записывали в детских лагерях отдыха. То есть мы записывали песни не только от деревенских женщин и мужчин, но и от городских детей. Пока мы готовили эту книгу, стало понятно, что существует какой-то странный внутренний конфликт внутри нас самих по отношению к этому явлению. Н.М. Герасимова писала в предисловии: «Эта книга — история любви. Как следует из названия, в ней повествуется о жестокостях любви и одиночестве страдания, происходящих всегда и сейчас, где-то и везде. Эта книга — народный рассказ о собственных переживаниях, часто простой и безыскусный, иногда наивный, но всегда трогательный, о той частной жизни человека, которую он готов разделить со всеми, потому что такое со всеми может произойти, то есть случится как любовь, как измена, как тюрьма, как война…»20. С одной стороны, баллада и романс обладают для нас несомненной притягательностью. С другой стороны, мы ловили себя на том, что стыдимся этого пристрастия. Этот парадокс — одновременно любовь к этому жанру и желание от него дистанцироваться — послужил основанием для моего внимания к жестокому романсу.
Первая запись, которую мы рассмотрим, была сделана от Александры Дмитриевны Беловой, которая живет в Вашкинском районе Вологодской области. Мы записали эту песню в 2003 году.
Всё васильки, васильки,
Много мелькает их в поле,
Помню, у самой реки
Мы собирали для Лёли.
Помню, у самой реки
Мы собирали для Лёли.
Лёля любила реку,
Ночью на ней гуляла,
Часто по целым ночам
С милым на лодке каталась.
Раз, просидев до утра,
Он предложил прокатиться.
Лёля согласна была,
В лодку помог ей садиться.
Лёля согласна была,
В лодку помог ей садиться.
Лодку веслом оттолкнул,
Лодка пошла по проливу.
Тихо всё было кругом.
Лёле опасность грозила.
Тихо всё было кругом.
Лёле опасность грозила.
Лёля веночек плела,
Веночек тот был васильковый.
Милый смотрел ей в глаза,
Взгляд его был невесёлый.
Милый смотрел ей в глаза,
Взгляд его был невесёлый.
Он её за руки брал,
В глазки смотрел голубые,
Всё без конца целовал
Бледные щёчки худые.
Всё без конца целовал
Бледные щёчки худые.
Милый тут вынул кинжал,
Низко над Лёлей склонился.
Лёля закрыла глаза.
Веночек из рук повалился.
Лёля закрыла глаза.
Веночек из рук повалился.
Утром чуть свет рыбаки
Лёлю нашли у пролива.
Надпись была на груди:
«Лёлю любовь загубила».
Надпись была на груди:
«Лёлю любовь загубила».
Эх, рыбаки, рыбаки!
Зачем вы всю тайну раскрыли?
Лучше бы вы, рыбаки,
Лёлю на дно утопили.
Лучше бы вы, рыбаки,
Лёлю на дно утопили.
Лёля лежит на столе.
Лёлечки больше не стало.
Раньше любила реку,
Теперь уж любить перестала.
Раньше любила реку,
Теперь уж любить перестала.
Всё васильки, васильки,
Много мелькает их в поле,
Помню, у самой реки
Мы собирали для Лёли.
Лелю милый убил. Такая случилась беда с Лелей. В этом варианте песни его мотивы непонятны. В основе этой баллады — фрагмент из стихотворения А.Н. Апухтина «Сумасшедший» (1890). Я приведу фрагмент из него, поскольку важно понять, какой путь прошел этот сюжет, каким образом сложилась Лелина-Олина судьба за более чем сто лет. Стихотворение начинается с того, что к сумасшедшему в сумасшедший дом приходит его семья, где и происходит разговор:
Да, васильки, васильки…
Много мелькало их в поле…
Помнишь, до самой реки
Мы их сбирали для Оли.
Олечка бросит цветок
В реку, головку наклонит…
«Папа, — кричит, — василек
Мой поплывет, не утонет?!»
Я ее на руки брал,
В глазки смотрел голубые,
Ножки ее целовал,
Бледные ножки, худые.
Как эти дни далеки…
Долго ль томиться я буду?
Всё васильки, васильки,
Красные, желтые всюду…
Видишь, торчат на стене,
Слышишь, сбегают по крыше,
Вот подползают ко мне,
Лезут всё выше и выше…
Слышишь, смеются они…
Боже, за что эти муки?
Маша, спаси, отгони,
Крепче сожми мои руки!
Поздно! Вошли, ворвались,
Стали стеной между нами,
В голову так и впились,
Колют ее лепестками.
Рвется вся грудь от тоски…
Боже! куда мне деваться?
Всё васильки, васильки…
Как они смеют смеяться?
Как мы видим, история здесь совсем другая. Каким-то образом сюжет из вполне декадансного преобразовался в жестокую историю с непонятным убиением. Он становится невероятно популярным. Так, например, в 1994 году в детском лагере Санкт-Петербургского политехнического института от девочки 11 лет было записано следующее:
Ах, васильки, васильки,
Сколько вас выросло в поле!
Помню, у самой реки
Все собирали для Оли.
Оля красивой была,
Русые косы плелися,
Из-за ее красоты
В школе мальчишки дралися.
Помню один паренек
Олю просил покататься.
Оля любила реку
И не могла отказаться.
«Оля, ты любишь меня?»
Оля шутя отвечала:
«Нет, не люблю я тебя,
Быть я твоей не желала».
Парень вдруг выхватил нож,
Низко над Олей склонился —
Хлынула алая кровь,
Синий букет покатился.
Утром пришли рыбаки,
Олю нашли у залива.
Надпись была на груди:
«Олю любовь погубила».
Ах, молодежь, молодежь!
Не надо так сильно влюбляться:
Любовь не умеет шутить,
А только кроваво смеяться.21
Предложив в качестве примера этот сюжет, мне хотелось бы показать следующее. Романсно-балладный сюжет не знает никаких социальных, возрастных и сословных границ. Он, как радиация, проникает во все слои русского общества, досоветского, советского и постсоветского. А, собственно говоря, в чем пафос этого произведения? Мы не будем говорить об Апухтине: сюжет стихотворения Апухтина был забыт очень быстро. Сначала фрагмент стихотворения был использован для мелодекламации, потом этот фрагмент утратил свое исходное содержание, преобразовавшись в эту кровавую историю, которая и стала распространяться, исполняемая в самых разных слоях российского общества. Моя собеседница 1936 года рождения вспоминала, как ее бабушка (в прошлом — актриса театра Станиславского) во время войны в эвакуации развлекала ее и соседских детей декламацией истории про Лёлю. По какой-то причине этот сюжет объединяет всех — деревню и город, детей и взрослых. В нем ничего другого не говорится, кроме того, что Лелю погубила любовь. Собственно говоря, в нем утверждается следующее: любовь — губит. И мы по этому поводу, с одной стороны, исполняя сладостно эту балладу, веселимся. А с другой стороны, точно переживаем за Олю и вообще за то, что любовь губит. Пока на этом остановимся, я просто хочу обратить внимание на содержание этого послания: любовь — губительна.
Второй пример — песня, также известная во многих вариантах. Ниже — один из них, записанный в Мезенском районе Архангельской области:
Во слободке-то во новой
Жил детина лет семнадцати,
Не женатый парень, холостой.
В одну девушку парень влюбился,
Обещался взамуж взять.
Он не знал, кого спроситься,
Кроме сердца-сердечка своего.
Его люди научали,
Ты спросись сын у отца
.
«Позволь, папенька, жениться,
Позволь взять, кого люблю!»
Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь:
«Есть на свете люди разные,
Можно всех вообще любить».
Отвернулся сын, заплакал,
Отцу слова не сказал.
Вышел в садик прогуляться
Прямо к Сашеньке-Саше на крыльцо,
Стукнул-брякнул в золото колечко:
«Выйди, Сашенька-девка, на крылечко,
Дай мне ручку, дай мне праву,
Со левой руки кольцо!»
«Не отдам твое колечко,
Не отдам свою любовь!»
«Дай мне саблю, дай мне востру,
Я срублю с плеч голову!
Ты катись, моя головка,
Со могучих плеч долой«.22
Приведу вариант этой песни с другим финалом:
…Раскрасоточка-девчонка
На лужочке гуляла.
Гуляла-гуляла, зло-коренья копала.
Накопала зло-коренья,
Дружка в гости созвала.
«Выпей, выкушай, Ванюша,
Стакан рому от меня».
Выпил, выкушал Ванюша,
Тяжелёхонько вздохнул:
«Ты, злодейка-лиходейка,
Так сумела наварить,
Так сумей-ка, лиходейка,
Мое тело схоронить”.23
Как мы видим, финал — другой, но тоже — трагический, здесь злодейка погубила героя. Следующий пример хорошо всем известен:
Дозволь, батюшка, жени…
Эх, жениться,
Дозволь взять, кого люблю.
Веселый разговор.
Дозволь взять, кого люблю«.
Отец сыну не пове…
Эх, не поверил,
Что на свете есть любовь.
Веселый разговор,
Что на свете есть любовь.
«Все на свете девки ро…
Эх, ровны,
Можно каждую любить.
Веселый разговор.
Можно каждую любить».
Отвернулся сын, запла…
Эх, заплакал,
Отцу слова не сказал.
Веселый разговор.
Отцу слова не сказал.
Взял он саблю, взял он во…
Эх, востру
И зарезал сам себя.
Веселый разговор.
И зарезал сам себя.
Вот тогда отец пове…
Эх, поверил,
Что на свете есть любовь.
Веселый разговор.
Что на свете есть любовь.

Кадр из Чапаева
Эту песню поют Чапаев и Петька в известном фильме «Чапаев» (1934, реж. Г. и С. Васильевы). Сюжет все тот же, но здесь сын сам себя убивает. Вариантов гибели нашего героя, который вознамерился жениться, много: его отравляют, он кончает жизнь самоубийством. Но коллизия — одна. Она строится на том, что нужно получить отцовское благословение на брак и что отсутствие отцовского благословения приводит к трагическим обстоятельствам. Мы можем спеть эту песню весело, всячески отстранившись, но тем не менее коллизия, которая в ней есть, для нас важна — это коллизия отношений между отцом и сыном. Это отношения благословения и подчинения или неповиновения, и последнее не сулит сыну ничего хорошего. Судьба сына, не получившего отцовского благословения, трагична. Об этом — «веселый разговор».
Итак, у нас есть история про Лелю, которую губит любовь, ибо таково свойство любви. Есть история про сыновей, которые, если они не получают благословения отцов, живут нехорошо и недолго.
Следующий сюжет тоже хорошо всем знаком. Мы знаем его по одному из прекрасных исполнений Федора Шаляпина:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны.
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись с своей княжной,
Свадьбу новую справляет,
И веселый, и хмельной.
А княжна, склонивши очи,
Ни жива и ни мертва,
Робко слушает хмельные
Неразумные слова.
«Ничего не пожалею!
Буйну голову отдам!» —
Раздается по окрестным
Берегам и островам.
«Ишь ты, братцы, атаман-то
Нас на бабу променял!
Ночку с нею повозился —
Сам наутро бабой стал…»
Ошалел… Насмешки, шепот
Слышит пьяный атаман —
Персиянки полоненной
Крепче обнял полный стан.
Гневно кровью налилися
Атамановы глаза,
Брови черные нависли,
Собирается гроза…
«Эх, кормилица родная,
Волга-матушка река!
Не видала ты подарков
От донского казака! …
Чтобы не было зазорно
Перед вольными людьми,
Перед вольною рекою, —
На, кормилица… возьми!»
Мощным взмахом поднимает
Полоненную княжну
И, не глядя, прочь кидает
В набежавшую волну…
«Что затихли, удалые? …
Эй ты, Филька, черт, пляши! …
Грянь, ребята, хоровую
За помин ее души! …»24

razin
В основе этой баллады — стихотворение Д.Н. Садовникова, русского этнографа и фольклориста (1847−1883). Почему это произведение Садовникова производит такое впечатление? Почему именно этот сюжет выбирается для одной из первых отечественных кинокартин? «Стенька Разин и княжна», или «Понизовая вольница» — игровой фильм, который был снят в 1908 году. Можно было бы предположить, что «фильма» снималась в угоду городскому простонародью, на потребу демократической публики. Но нет. Как показала Н.М. Зоркая, мотив «атаман разбойников топит свою любовницу, иноверную княжну, в угоду разбойничьей братии» привлекал самых разных авторов русской литературы — от Пушкина до Цветаевой, он был востребованным в самых разных социальных слоях25. В 1914−1915 годах поэт-футурист Василий Каменский пишет поэму «Степан Разин» и прозаическое произведение «Степан Разин — приволжский роман». А в 1818 году в Москве во Введенском народном доме на Елоховской ставится постановка по этой поэме Василия Каменского, опять — Стенька Разин и княжна. Княжну исполняет Алиса Коонен, жена Таирова, изысканная театральная красавица. Приведу фрагмент текста Каменского:
От края до края
Холопская голь
Власть свою правит
По Волге в раздоль.
Победы разгулом,
Весельями дразнятся,
Да только огулом
Ругаются разинцы:
«А ну ее к рожну —
Персидскую княжну!
В Волгу дунь ее,
Колдунью.
Не до баб нам, атаман,
Когда с войском караван
От царя идет в заимку.
А ты с бабой спишь в обнимку.
Слышь?
Дунь!
Кинь!
Брось!
А то
сердце
с нами
врозь.
Брось!»
Груди гордые выправив
В ожидающем трепете,
Струги стали на выплави,
Как на озере лебеди.
Тишь.
Жигулевские горы
Солнце вечера режет.
Устремились гор взоры
На густеющий стрежень.
Ждали.
На струг вышел Степан
Из шатровой завесы,
А в руках — гибкий стан
Извивался принцессы.
Взмах!
И брызги алмазные
Ослепили глаза.
Песни бражные, праздные
Разлила бирюза.
Прощай!
Фольклорные варианты этого сюжета в виде песни записываются фольклористами на всей территории СССР на протяжении XX века. Эта песня остается популярной и в веке нынешнем. Так, например, одно из прекрасных ее исполнений принадлежит хору подворья Оптиной Пустыни26. Судьба княжны оказалась незавидной и в этом исполнении, в варианте, исполненном мужским хором монастырского подворья. Что такое с этим сюжетом? Почему он вызывает такой интерес и такое сочувствие? Его пафос достаточно понятен: мужская дружба, мужские отношения группы являются более важными, чем любовные интересы, частные интересы мужчины. Лояльность ценностям мужской группы для мужчины важнее любовных уз. Это нетрудно пересказать, смысл послания лежит на поверхности.
Если мы посмотрим на то, как выглядит мир мелодрамы, романса, баллады и прочих известных нам популярных художественных форм, то есть если мы представим, как выглядит мир мелодраматической модальности, то увидим следующее:
Дети — сироты, живут без родительской ласки и любви:
Там в саду при долине,
Громко пел соловей,
А я мальчик на чужбине,
Позабыт от людей.
Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет.
И куда ж я поеду,
И куда ж я пойду?
Я родного-ого уголочка
Я нигде не найду.2
Родители стареют, брошенные детьми, не благословляют и не прощают детей.
Взрослые дети не почитают своих родителей и не заботятся о них. Вспомним:
На паперти Божьего храма
Оборванный нищий стоит
И видит: какая-то дама
Роскошно одета на вид.
Из церквы выходит та дама,
Старик задрожал и упал…
«Я нищий, отцу Христа ради.
Подай, дочь родная, на хлеб».
Притворно она засмеялась,
Поспешно сбежала с крыльца,
Коляска проворно умчалась,
Забрызгала грязью отца.
Вспомним также и то, что А.П. Чехов не отказался от этого мелодраматического хода в рассказе «Анна на шее».
Жены и возлюбленные — предают, изменяют, выходят замуж за другого.
Мужья и возлюбленные — изменяют, бросают, берут в жены другую.
Плохие мужчины — изменяют мужской дружбе и общественным ценностям в пользу личного любовного или семейного интереса. Хорошие — верны своему общественному долгу и мужской дружбе.
Плохие женщины — бросают своих детей.
И каждый страдает от разлуки с предметом своей любви — возлюбленным, отчим домом, детьми. Нет ничего хуже разлуки. Всем для того, чтобы жить хорошо, нужно физически быть вместе с предметом своей любви. Главный грех, который подлежит отмщению и никогда не прощается, — это измена, предательство и вероломство. Потому что эти грехи, эти действия посягают на отношения, которые являются самими ценными, самыми главными в мелодраматическом мире.
Мелодрама, как мы понимаем, играет от противного. Представим себе тогда, как выглядит мир абсолютного счастья, которые скрывается за мелодраматической модальностью? Родители — прощают и благословляют, любят и ласкают. Жены и возлюбленные — верны до гроба. Мужья и возлюбленные — верны до гроба. Дети — почтительны, заботливы и послушны. Мужчины — верны своей мужской группе. Женщины — честны и верны своему семейному предназначению. И все — неразлучны. За страстями баллады и романса, за эмоциональностью мелодрамы скрывается такой вот идеальный мир. Он — очень теплый, ты в нем укоренен, ты в нем защищен большим количеством связей: с родителями, которые над тобой, с детьми, которые под тобой, с возлюбленным, который рядом. Если ты этот набор утрачиваешь, ты немедленно начинаешь страдать в разлуке, как сизый голубочек, который страдает-страдает, а потом умирает, потому что другой голубочек его покинул. Я имею в виду стихотворение И.И. Дмитриева «Стонет сизый голубочек», впервые опубликованное в 1791 году в «Московском журнале» и ставшее народной песней, которую мы записывали в деревнях в 90-е годы XX века.
Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.
Он уж боле не воркует
И пшенички не клюет;
Всё тоскует, всё тоскует
И тихонько слезы льет.
С нежной ветки на другую
Перепархивает он
И подружку дорогую
Ждет к себе со всех сторон.
Ждет ее… увы! но тщетно,
Знать, судил ему так рок!
Сохнет, сохнет неприметно
Страстный, верный голубок.
Он ко травке прилегает,
Носик в перья завернул;
Уж не стонет, не вздыхает;
Голубок… навек уснул!
Стоны голубочка продолжаются более двухсот лет.
Мир мелодраматической модальности — патриархальный мир, где человек существует хорошо и спокойно, только когда он окружен теплыми человеческими связями, когда он находится под защитой сети ближайших к нему социальных отношений, коими он полностью определен. Ужас и опасности наступают тогда, когда эти связи разрушаются. И главная опасность, которая есть в этом мире, — это любовь, причем любовь-страсть, явление, которой всех делает жертвами. Она разрушает все связи: возлюбленный немедленно становится злодеем, если он любит кого-то еще, возлюбленная становится злодейкой, потому что она выбирает другого, дети, отправившиеся в мир жить свою собственную жизнь, — тоже злодеи, родители, отвлекшиеся от своих детей, — злодеи. Мир отношений, чаемых мелодрамой, — это не мир христианской любви, которая, как мы знаем, «не ищет своего». Это не та любовь, которая «долготерпит, милосердствует… все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». (1 Кор. 13:4–7).
А еще в этом мире нет человека, обращенного к самому себе. Как нет и человека, обращенного к миру.

тульская городская глин игрушка
Прежде чем я перейду к выводам, я бы хотела обратить внимание на то, что в русской литературе и в русской культуре отношения с мелодраматической модальностью складываются особым образом. Практически все писатели старательно отрицали в себе хотя бы какие-то черты мелодраматизма. А.С. Пушкин замечает: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама»27. Но «Дубровский» — с благородным разбойником и насильным замужеством, но «Станционный смотритель» — несомненно, мелодраматичны. И именно эти произведения веками удерживаются в школьной программе по литературе.
Театральный критик времен высокой русской драмы А.И. Вольф гневно высказывается: «Из всех родов ложной поэзии самый несносный род эти мелодрамы!», «Убийства, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделись сыны палящей Африки. Палачи, яды — эффект, вечный эффект!», «Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме?»28 О мелодраматической лжи говорит и Герцен29.
С одной стороны, литераторы отрицательно оценивают мелодраматизм, считая его дурным тоном. С другой — мы обнаруживаем, что в произведениях этих авторов или в произведениях, высоко оцениваемых критиками, присутствуют мелодраматические ходы.
Покажу это на примере драмы Островского «Гроза». Российские школьники, начиная с 80-х годов XIX века, проходят «Грозу». Все — и российские, и советские, и постсоветские — пишут про темное царство и луч света в нем. Я попросила одну из моих коллег дать мне для анализа современные школьные сочинения о «Грозе» (они были написаны в Петербурге в 2013 году). Мне было интересно, что могут усмотреть важного для себя современные подростки в драме, конфликт которой разворачивается между женщиной, которая, полюбив, решилась на адюльтер, и ее свекровью? Что могут писать об этом современные дети? Но, как я увидела, они честно пишут про природу, про грозу и луч света. Они стараются, они как-то справляются с этой задачей, что им остается делать: «Кабанова во всем находит вину Катерины, придирается к ней по поводу и без, считая, что эта ненавистная Катерина забрала у нее любовь сына. Героиня чувствует обиду за такие беспочвенные обвинения. Катерина считает, что все должно быть по справедливости, но понимает — ничего поделать нельзя». И далее: «Катерина влюбляется в несамостоятельного Бориса. Он совершенно новый человек в их обществе, приехал из Москвы, и оттого Катерине кажется, что он совсем другой, не то, что жители Калинова, что он сможет ее понять. Она с самого начала осознает для себя греховность своего чувства, ведь оно идет наперерез законам Божиим — главным законам, по которым она живет. Но сердцу не прикажешь» (школьное сочинение, Ксения, 10 класс, 2013 год).
Катерину, как и Лёлю, как мы видим, также губит любовь: «сердце», за границами рассудка и смысла скрытый мотив, есть причина событий. «Сердцу не прикажешь», — замечает девушка, родившаяся на рубеже второго тысячелетия.
«Гроза» в своей основе имеет, несомненно, мелодраматический сюжет. Тут все есть: и адюльтер, и жест, и старый родитель, и наперсник с наперсницей, и так далее. Как ни странно, критики, как только «Гроза» появилась (ее сначала, в 1859 году, приняли осторожно), о ней говорят, что это — народная драма. То есть если не мелодрама, (видимо, поскольку это не в Африке происходит), то, значит, соответственно, это тот самый сюжет, который отвечает современной русской жизни.
Что же получается? В истоках нашей мелодраматической ментальности — Карамзин с «Бедной Лизой», который говорит: и крестьянки любить умеют. Конфликт между долгом, моралью и любовью, непереносимость разлуки — и смерть в воде, суицид. Потом Островский, который говорит: «да и мещанки любить умеют!» Конфликт между… — тут подставляем, кого захотим, Добролюбова, или иных критиков, ибо конфликт этот формулировали много раз и по-разному — и вновь суицид, смерть в реке. Княжна — опять в реке, все по тому же конфликту между долгом (на сей раз атамана перед товарищами-разбойниками) и страстью.
Вероятно, трансформация апухтинского стихотворения о сумасшедшем в сюжет о Лёле была предопределена всем ходом развития отечественного мотива «роковая смерть женщины в реке».
Любовь, о которой идет речь в подобных текстах, любовь-страсть, приводит человека в конфликт с теми уютными, семейными, приватными отношениями, в которых он находится. Собственно, это романтический конфликт между индивидуальным желанием и патриархальной социальной нормой, которая определяет связь человека с родителями и детьми, с его окружением, определяет его обязательства перед ними. Что примечательно, конфликт между этой нормой и страстью — не сословный. Он есть во всех сословиях, в нем все оказываются объединены.
Интересно, что и во времена Островского многие авторы отмечали, что «Гроза» каким-то образом связана с романсом и мелодрамой. Так Панаев описывает «Грозу» следующим образом: «Катя с детства проводила время между юродивыми, странницами и им подобными… Катю выдали замуж… Несчастная Катя, в отчаянной борьбе сначала отталкивает от себя Бориса и потом, видя его отчаяние, успокаивает его и признается ему в любви… Надзор за Катей увеличивается, замки и затворы умножаются… Ждать от жизни нечего, участь ее решена. Она бежит к Волге и бросается в реку…»30
Итак, я полагаю, что мелодраматизм — это ментальность, в которой мы живем. Скорее всего, мы ее не очень отличаем от реальности. Может быть, в экономике, бизнесе, науке и технике мы не мелодраматичны… Хотя «выбирай сердцем», «своих не сдаем» и прочие лозунги политической жизни базируются на мелодраматических ходах. Вероятно, мелодраматическая модальность есть и в этом слое жизни.
Но я хотела бы сказать нечто жизнеутверждающее. Мелодраматическая манера чувствовать, думать и вести себя вошла в русскую жизнь с «Бедной Лизой» Карамзина, укрепилась «Дубровским» и «Станционным смотрителем», получила всеобщее признание после «Грозы» Островского и к XX веку стала общей ментальностью нового времени. Утешает и радует знание о том, что, мир, который изображают мелодрама, романс и баллада, не равен реальности. Он необязательно должен быть таким. Мы знаем, когда это началось. Мы унаследовали эту ментальность от сентиментализма и романтизма, освоили ее в ХIX веке, сохранили в фольклорной традиции XX века и неофициальной культуре песен советского времени. Кстати говоря, эта модальность противоречила советскому пафосу и советской этике, она скрылась в фольклор и городскую песню, в киномелодраму, которая тогда не называлась мелодрамой…
Когда советские времена миновали, мелодрама заняли свое достойное место на экранах телевизоров, радио и так далее. Такую модальность говорения, понимания, чувствования и видения себя мы усвоили. Каким образом мы дальше будем проживать — с мелодрамой или без, трудно сказать. Но здесь нет ограничений, никто нас не приговорил к тому, чтобы всегда чувствовать себя жертвой обстоятельств — собственной страсти («сердцу не прикажешь»), происков злодеев, или рокового случая, — это не единственно возможная форма восприятия жизни.
1 Шабалина Т. Мелодрама // Энциклопедия «Кругосвет».
2 Williams C. Melodrama // The New Cambridge History of English Literature: The Victorian Period. Cambridge University Press, 2012. P. 193–219.
3 Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке / Cост. М. Попов. 1907.
4 Толковый словарь Ефремовой / Сост. Т. Ефремова. М., 2000.
5 Я нашла лишь несколько российских работ последних лет, которые на них ссылаются. См., например: Вознесенская Т. Поэтика мелодрамы и художественная система А.Н. Островского: к проблеме взаимодействия / Канд. дисс. М., 1997.
6 Brooks P. The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New Haven; London: Yale University Press, 1976.
7 Mercer J., Shingler M. Melodrama: Genre, Style, Sensibility. (Short Cuts). London: Wallflower, 2004.
8 Williams L. Melodrama Revisited // Refiguring American Film Genres: History and Theory. Berkeley: University of California Press, 1998.
9 Согласно Томашевскому, которому принадлежит одна из первых отечественных литературоведческих статей, посвященных происхождению французской мелодрамы, возникновение жанра было следствием столкновения правил привилегированного театра Парижа (Комеди Франсэз) с малыми популярными театрами, расположившимися на бульварах, где было законодательно запрещено употребление слова: они ограничивались пантомимой. (Томашевский Б. Французская мелодрама начала XIX века (Из истории вольной трагедии) // Поэтика. Сборник статей. Вып. II. Временник отдела словесных искусств. Л., 1927. С. 55–82.
10 Ленин В. Полное собр. соч. 5 изд. Т. 1. С. 138–139.
11 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное / пер. с фр. Л.Е. Куббеля; Вступ. ст. Ю.Н. Афанасева. М.: Издательство «Весь мир», 2007.
12 Гуревич А. Проблема ментальности в современной историографии // Всеобщая история: Дискуссии, новые подходы. Вып. 1., М., 1989. С. 84–85.
13 Searle, J. The Construction of Social Reality. N. Y.: Free Press, 1995. Р. 134–135.
14 Гуревич А. Указ. соч. С. 80.
15 Хейзинга Й. Осень Средневековья. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013.
16 Там же. С. 94.
17 Журнал «Анналы экономической и социальной истории» (Annales d’histoire conomique et sociale) выходил с 1929 по 1939 год.
18 Первый русский перевод: Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. Таллин: Ээсти раамат, 1983.
19 Эксле О. Г. «Образ человека» у историков // Эксле О.Г. Действительность и знание. Очерки социальной истории Средневековья. М.: НЛО, 2007. С. 307.
20 Городская баллада и жестокий романс / Сост. С. Адоньева и Н. Герасимова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1996. С. 5.
21 Там же. С. 309–310.
22 Фольклорный архив СПбГУ (Мез21–355).
23 Городская баллада и жесткий романс. С. 64–65, № 50.
24 Русские песни и романсы / Вступ. статья и сост. В. Гусева. М.: Худож. лит., 1989. См. об этом сюжете: Смолицкий В., Смолицкий Г. История одного песенного сюжета // Народное творчество. 2003. № 6.
25 Зоркая Н. Персидская княжна: лубочный сюжет и русская литература XIX-XX века // Зоркая Н. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа. М.: АГРАФ, 2010. С. 11–24.
26 Фольклорный архив СПбГУ (Пин21–36).
27 Пушкин А. Собр. соч. в 10 т. М., 1962. Т. 6. С. 344.
28 Вольф А. Хроника петербургских театров (с конца 1826 до начала 1855 года). СПб., 1877.
29 См.: Вознесенская Т. Поэтика мелодрамы и художественная система А.Н. Островского. К проблеме взаимодействия / Канд. дисс. М., 1977.
30 [Панаев И. И. ] «Гроза”, драма Островского // Современник. 1859. № 12, отд. II. С. 371—376. С. 371.
Читайте также
-
Смерть с идиотом — «Метод исключения» Пак Чхан-ука
-
Тело, смерть и отпечатки воспоминаний — «Звук падения» Маши Шилински
-
Понять все, что есть — «Сны поездов» Клинта Бентли
-
Опять не смешно — «Бегущий человек» Эдгара Райта
-
Просто Бонхёффер
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым







