Липранди и Дубельт. К загадке одного политического процесса
Действующие лица или исполнители
Когда Достоевский познакомился с вышедшей в Лейпциге книгой о деле петрашевцев, то выразился лаконически: «Целый заговор пропал». Дескать, от внимания авторов книги (как некогда и от бдительности правительства) укрылись обстоятельства, в которых он, Достоевский, сыграл не последнюю роль. И вправду: кому и знать все тайные перипетии, как не ему — по завершении процесса приговоренному с двумя десятками подельников к смертной казни…
У исторической драмы 1849 — два аспекта. Один метафизический: первые ростки, пущенные на российской почве социализмом, первые предвестия грядущей судьбы страны — пока еще загадочные и мало кому внятные. Но, пожалуй, другой аспект, чисто человеческий, не менее драматургичен — такие здесь взлеты и падения духа, такие сшибки характеров и воль, что поневоле ощущается присутствие некоего высшего режиссера. Отчаянные психологические дуэли под сводами крепости; железная поступь государства, сминающего на своем пути слабые побеги инакомыслия; полицейские провокации, провалы безумия, мольбы о пощаде, порывы раскаяния и, наконец, жуткий маскарад Семеновского плаца — что это, как не захватывающее кино?
К тому же есть в петрашевской истории и еще один сюжет — потаенный, детективный. И задействованы в нем не только такие персонажи, как Достоевский или Спешнев, но и ключевые фигуры «с той стороны». Это два генерала — главный разыскатель по указанному делу И.П. Липранди и руководитель тайной полиции Л.В. Дубельт. Они бывшие сослуживцы, «одноштабные», участники войны 1812 г. (Дубельт был ранен при Бородине, Липранди получил тяжелую контузию под Смоленском). Тридцать семь лет спустя пути старых товарищей снова пересекаются.
В 1808 г. Липранди начал вести дневник и аккуратно заполнял его на протяжении едва ли не семидесяти лет. Дневник, однако, исчез. Липранди — человек письменный: бумаг после себя он оставил великое множество. Но важнейшие из них, может быть, исчезли вместе с автором. Историкам остается лишь строить гипотезы относительно его жизни и случавшихся с ним метаморфоз.
Нет, в частности, согласия относительно того, чем занимался Липранди в начале 1820-х гг. — в пору своего тесного дружества с Пушкиным. Известно, впрочем: был разведчиком при штабе русских войск в Бессарабии; держал в своих руках широко раскинутую агентурную сеть, захватывающую подвластные Блистательной Порте области; позднее, в 1828 г., возглавил созданную по его проекту Высшую тайную заграничную полицию… Пожалуй, портрет Липранди был бы уместен в штаб-квартире российской разведки в Ясеневе — на правах отца-основателя.
«Он мне добрый приятель, — пишет Пушкин П.А. Вяземскому в 1822 г., — и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством и в свою очередь не любит его». Однако «верной порукой за честь и ум» Липранди служит не столько степень его отдаленности от власти (дистанция ведь может и измениться), сколько мнение самого Пушкина — его расположение, его дружество, его, наконец, писательский взгляд. (Известно, что Липранди, подсказавший сюжет автору «Выстрела», был одновременно и прототипом Сильвио.)
«Где и что Липранди? — вопрошает Пушкин из Одессы в 1823 г. — Мне брюхом хочется видеть его». Иначе говоря — всей душой.
Пройдут годы. «Известный доносчик по делу Петрашевского» — так будет аттестован 67-летний отставной генерал в первом же выпуске герценовского «Колокола». Кличка прилипнет навеки. Из друзей Пушкина Ивану Петровичу повезет меньше всех.
Конфузы III Отделения
Как складывается его жизнь? В 1840 г. Липранди переезжает в Петербург и меняет генеральский мундир на партикулярное платье; отныне он по рангу — действительный статский советник, по должности — чиновник по особым поручениям при министерстве внутренних дел. Среди прочих «особых поручений» на него возлагают наблюдение за раскольниками и другими неуместными в православном государстве сектантами. Молва обвиняет его в корысти: якобы Липранди вымогает крупные взятки у богатых скопцов. Молва пророчит ему возмездие: якобы Липранди грозит сенатское расследование. И если молва права, то разыскательский пыл этого просвещенного, но явно недовольного мизерабельностью своей карьеры статского генерала вполне понятен: удачно проведенное политическое дело спишет все грехи и ускорит чинопроизводство.
Недавно найденные нами записки Липранди — доселе остававшиеся неизвестными — заставляют усомниться в этой общепринятой версии. Как утверждает Иван Петрович, первые известия о деятельности Петрашевского (именно — о его довольно невинных экономических прожектах, которые легкомысленный автор совершенно открыто распространял среди помещиков Петербургской губернии) дошли до государя Николая Павловича не благодаря усердию полицейских чинов, а, по несколько туманному выражению Липранди, «через баб» (очевидно, близких ко двору). Государь сурово допросил тех, кому надлежало об этом ведать. Но увы: ни министр внутренних дел Л.А. Перовский (начальник Липранди), ни сам глава III отделения граф А.Ф. Орлов не смогли удовлетворить любопытства монарха. Липранди посчастливилось первым доставить бумагу — он просто одолжился ею у своих гостей. О таковом подвиге был немедленно извещен государь. И вот уже граф Орлов доводит до сведения Липранди: императору, который к случаю вспомнил былые заслуги генерала на поприще внешней разведки, угодно поручить ему устройство «настоящего тайного надзора» за Петрашевским и его друзьями. Мог ли действительный статский советник ослушаться высочайшей воли?
Не он, а некто повыше был зачинщиком этого дела, — не устает повторять Липранди. Не он обнаружил, не он донес. Он лишь старался неукоснительно исполнять служебный долг. Иван Петрович очень хочет выглядеть пристойно в глазах взыскательного потомства. И спешит довести до него слова графа Орлова, который, доверительно положив руку на плечо генерала, мягко приказывает ему не осведомлять сотрудников III отделения о задуманной операции («чтоб и мои не знали»): «…Забудьте свое старое сослуживство с Дубельтом, иначе может встретиться столкновение и сведения перепутаются». Шеф тайной полиции предпочитает чистоту жанра.
Март 1848 — апрель 1849 гг. — звездные часы Липранди. Его профессиональные дарования и навыки разворачиваются в полную силу. Нанятые агенты-извозчики каждую пятницу исправно дежурят у дома Петрашевского в Коломне и услужливо развозят поздних гостей за самую скромную мзду. Завербованные девицы легкого поведения готовы сообщать о любых сомнительных разговорах, затеваемых клиентами. И, наконец, благородный «сын живописца» и первый в российской истории агент-провокатор Петр Антонелли дружится с Петрашевским, является на ночные сходбища и исправно осведомляет Липранди обо всем, что там происходит. Именно в этих отчетах впервые возникает имя Достоевского.
Наконец государь решает: пора кончать. (Ибо через несколько дней он двинет войска в восставшую Венгрию, дабы спасти союзную австрийскую монархию от преждевременного развала.) 20 апреля 1849 г. граф Орлов вызывает к себе Липранди и в присутствии ничего не подозревающего и, натурально, как громом пораженного Дубельта приказывает передать последнему всю документацию — для производства арестований.
«Дубельт, — говорит в своих записках Липранди, — бледный во все время, не произнес ни одного слова и, выйдя на крыльцо, пригласил меня сесть с ним в карету, употребив для сего слово «вы», которого с 1812 года в употреблении между нами не было. Я очень хорошо понимал все, что он должен был чувствовать, и объяснил ему, как все происходило…» А именно — что приказ о сохранении тайны последовал от непосредственного начальника Леонтия Васильевича и что он, Липранди, не смел нарушить данное графу Орлову слово.
Дубельт прослезился: он, по-видимому, тронут чистосердечием коллеги, чье перо — через десятилетия — нимало не дрогнет, изображая генеральские слезы. И оба рьяно берутся за дело.
На пике карьеры
…Подъехав в ночь с 22 на 23 апреля к III отделению, Липранди поражен необыкновенной картиной. Все окна и подъезд здания у Цепного моста ярко освещены; взад-вперед снуют жандармские офицеры. На улице и во дворе теснится множество «четвероместных» извозчичьих экипажей — они собраны со всего города, чтобы на рассвете отправиться за арестуемыми. Опытнейший Липранди уязвлен подобной беспечностью — ведь направляющиеся к Петрашевскому (или возвращающиеся от него) завсегдатаи «пятниц» могут почуять опасность и поспешат уничтожить улики! Липранди не скрывает своих опасений от бывшего товарища по оружию. Однако не слишком искушенный в подобных делах Леонтий Васильевич (опыт массовых посадок в России еще впереди) только отмахивается. Докладывая об этих прискорбных обстоятельствах своему министру, Липранди тонко даст понять: будь подобная миссия поручена лично ему, он, как истинный профессионал, исполнил бы ее более положительным образом.
Вместе с Дубельтом он отправляется арестовывать Петрашевского. (Притом как лицо, уже «сдавшее дела», деликатно остается в карете.) Вот он, краткий миг триумфа, вот высшая точка карьеры Ивана Петровича Липранди — дальше начинается плавный, но неукоснительный спад. Его, главного виновника торжества, разработавшего и пустившего в действие весь механизм, все подготовившего, все обеспечившего, — его даже не включат в состав высочайше утвержденной Следственной комиссии; вместо этого Липранди будет откомандирован в комиссию по разбору бумаг. Имя его агента — не без подсказки со стороны жандармского ведомства — станет известно публике; его самого наградят не орденом за важные государственные заслуги (как он с полным основанием ожидал), а «всего лишь» деньгами — уравняв тем самым с доносчиком Антонелли. А главное — его мнения будут не слишком-то интересовать власть…
Пока в Петропавловской крепости вершатся глухие драмы (правда, некоторые обвиняемые для борьбы с государством предпочитают жанр бурлеска), Липранди старается уверить Комиссию в чрезвычайной серьезности дела — в отличие от оплошавшего Дубельта, который по понятным причинам эту серьезность всячески приуменьшает. Но особое мнение чиновника по особым поручениям, поданное в Комиссию, в первую очередь уличает ее саму: она, мол, в благодушии своем не разглядела глобального общероссийского заговора. Будь эта версия принята, немедленно пошла бы цепная реакция арестов, возникли бы тысячи новых дел, разысканий… Теоретически — возможно, но практически — бесполезно. И Комиссия отвергает «теорию заговора»: изящно, со всеми приличествующими комплиментами по адресу обвинителя. А в своем заключении, без всяких оговорок и сомнений, записывает: «…организованного общества пропаганды не обнаружено».
Так какой же заговор пропал?
Искусство сокрытия улик
Существует позднейшее свидетельство Аполлона Майкова: однажды явился к нему Достоевский и с жаром стал уговаривать вступить в только что образованную «тайную семерку», цель которой состояла в заведении подпольной типографии. (Крупный план: Достоевский, оставшийся ночевать у приятеля, стоит в красной ночной рубашке с незастегнутым воротом и, оживленно жестикулируя, уверяет Майкова в святости дела.) Но безумная идея совсем не вдохновила поэта. Он лишь добавляет, что печатный станок был-таки собран — на квартире Николая Мордвинова, за несколько дней до арестов. Проводившие обыск его не приметили (в кабинете-де находилось много физических приборов), а родственники Мордвинова позднее тайно вынесли опасную улику, сняв для этого опечатанные полицией двери.
Тут следует кое-что уточнить. Хотя Николай Мордвинов входил в «семерку», станок, скорее всего, был вынесен из квартиры истинного вдохновителя всего предприятия — Н.А. Спешнева. Когда на следствии один из посвященных упомянул о местонахождении типографии, Комиссия немедленно потребовала от генерал-лейтенанта Дубельта повторного обыска и «взятия в квартире Спешнева домашней типографии». Дубельт отдал соответствующие письменные распоряжения.
В архиве III отделения мы обнаружили переписку по указанному предмету. Она, признаться, может повергнуть в изумление.
Отряженный Дубельтом для захвата важнейших вещественных доказательств жандармский полковник Станкевич сообщает начальству, что в квартире Спешнева по самом строгом осмотре типографии не найдено. При этом мать Спешнева поведала нежданным гостям, что за две-три недели до их визита квартиру уже посещали. Она была «отпечатана» действительным статским советником Липранди и жандармским подполковником Брянчаниновым, которые, отобрав «все найденное подозрительным», вновь опечатали помещение и отбыли восвояси.
Это — невероятно.
Выясняется: не «родные Мордвинова», не домашние Спешнева и не какие-либо другие приватные лица, а персоны вполне официальные снимают печати и преспокойно выносят все, что считают необходимым. Но самое удивительное, что они не ставят об этом в известность практически никого. Никакого документа об этом обыске в деле нет. И управляющий III отделением узнает о нем лишь по чистой случайности — из служебного рапорта, который, надо полагать, немало его потряс.
«Где и что Липранди?» — вопрошал Пушкин. А вот он, оказывается: весь как есть.
Впрочем, так ли уж удивлен Дубельт? На следующий день он посылает в Комиссию донесение, где честно сообщает о том, что искомой типографии не обнаружено. Он даже прилагает улики: какие-то пустые деревянные ящики, вряд ли могущие возместить отсутствие печатного станка. Но — и это самое поразительное — Дубельт ни словом не упоминает о том, что полковника Станкевича опередили. Имена Липранди и Брянчанинова генералом не названы и названы не будут.
Одно из двух. Либо Дубельт действительно ничего не ведал о визите Липранди, но по каким-то не вполне нам понятным причинам отказался закладывать старого товарища (хотя удобнейший случай для отместки конкуренту вряд ли мог представиться), либо…
Либо Леонтий Васильевич прекрасно знал, что его посланцы в квартире Спешнева ничего не найдут. Иными словами, он и Липранди действовали заодно.
Для совершения таких в высшей степени рискованных операций нужны очень серьезные мотивы. Нелепо, конечно, предполагать в верных солдатах империи намерение помочь арестантам. Тогда что же?
Дело в именах. Среди семи потенциальных типографов находится уже упомянутый выше Николай Мордвинов. На протяжении всего следствия он благополучно разгуливает на свободе — его призовут к допросу только 2 сентября и через несколько часов с миром отпустят. Другой кандидат в «семерку» — В.А. Милютин. Его вообще не обеспокоят.
Милютин — брат будущего военного министра и родной племянник министра государственных имуществ П.Д. Киселева, бывшего в 1820-е гг. наместником в Молдавии и покровительствовавшего Липранди. Николай Мордвинов — сын сенатора А.Н. Мордвинова, бывшего руководителя тайной полиции. Именно его в 1839 г. Дубельт сменил на посту управляющего III отделением.
Несомненно, сенатор Мордвинов сделал все возможное и невозможное, чтобы вывести из-под удара родного сына. Братья Милютины тоже не дремали: достоверно известно, что им удалось изъять из дела один важный и компрометирующий В.А. Милютина документ (эта история — отдельный детективный сюжет). Разумеется, с такой «объемной» уликой, как типографский станок, проделать подобное было несколько сложнее. Однако при правлении отечески-патриархальном — и особенно при наличии могущественной родни — всегда можно слегка усыпить закон. Тупой государственный меч легко вязнет в толще родственных интересов.
Кстати, мы забыли упомянуть, что Леонтий Васильевич вот уже тридцать лет состоит в браке. И жена его Анна Николаевна, помимо прочих своих достоинств, еще и родственница Мордвиновых.
«Целый заговор пропал», — скажет Достоевский. И даже не заподозрит, что к «заговору» могли быть причастны такие фигуры, как Липранди и Дубельт.
«Жизнь моя — кинематограф…»
Жизнь оказывается сценарнее любой сочиненной интриги — сколь бы ни был талантлив сочинитель. Ее фабульные ходы и сюжетные узлы словно специально предназначены для киновоплощения.
…Карьера Дубельта завершится с началом нового царствования. Он умрет в 1862 г. Липранди переживет его почти на двадцать лет. Но ему придется оправдываться.
«…Оно, — говорит Липранди о деле петрашевцев, — положило предел всей моей службе и было причиной совершенного разорения». Отныне всюду ему видятся козни родственников и сослуживцев осужденных: это они возобновили обвинения, что он есть «немилосердный грабитель скопцов», это они пытались положить конец его в высшей степени полезной для Отечества деятельности. Да и III отделение так и не простит чиновнику из конкурирующего ведомства своего оглушительного провала. «Казнь Липранди совершена, — горько сетует сам казненный, — не на основании закона, а закулисно».
Разумеется, многоопытный чиновник по особым поручениям ни словом не обмолвится об истории с типографией.
На склоне лет Липранди почти всецело погрузится в написание обширных военно-исторических трудов: «Краткое обозрение отечественной войны от 17 августа до 2 сентября», «Бородинское сражение» (за которое его поблагодарит Лев Толстой), «Восточный вопрос и Болгария», «Взгляд на театр военных действий на Дунае» и т. д. Он будет помещать в журналах статьи о раскольниках, с которыми он некогда столь близко сошелся. Но, проделав путь от таинственного романтического героя до образцового петербургского бюрократа, Липранди войдет в Большую историю вовсе не своими изысканиями и штудиями. Близкий приятель автора «Вольности», его сотрапезник и конфидент, он стал незримым гонителем Достоевского — того, кто пребывал с Пушкиным в кровном, хотя и неочевидном, родстве. Интересно, что сказал бы поэт об этих «странных сближениях»…
Но не они ли, собственно, и есть следствие некоего высшего монтажа?






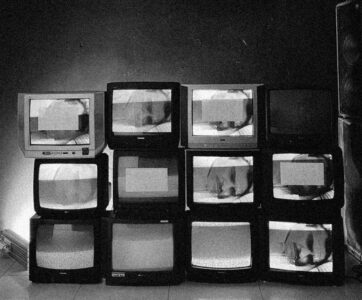

1845, апрель — после смерти отца Михаил Буташевич-Петрашевский, переводчик из МИД, добивается от матери, чтобы ему была выделена отдельная квартира в их собственном доме на Покровской площади, и приглашает своих друзей поселяться у него. Начинаются собрания кружка.
1845, апрель — первый выпуск «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» под редакцией В. Майкова. В написании словарных статей принимают участие Петрашевский и его единомышленники.
1845, осень — первые регулярные собрания у Петрашевского. Постоянные посетители — М. Салтыков, В. Майков, В. Милютин, А. Баласогло; всего около пятнадцати человек.
1846 — к кружку присоединяются Ф. Достоевский, А. Григорьев и другие.
1846, апрель — второй выпуск «Карманного словаря иностранных слов». Около 400 экз. расходится немедленно.
1846, 20 апреля — Петербургский цензурный комитет требует из типографии корректуру словаря. 13 мая — издателя словаря Кириллова вызывают в цензурный комитет для объяснений. 14 мая — по требованию министра просвещения Уварова цензурный комитет принимает решение об изъятии всех нераспроданных экземпляров из типографии с последующим уничтожением.
1846 — Петрашевский пробует применить учение Фурье — объединить своих крестьян в фалангу — и строит здание фаланстера. Накануне переселения в него крестьян оно загадочным образом сгорает.
1847, конец — в кружке появляются Н. Спешнев, С. Дуров, А. Пальм, бр. Дебу, Н. Данилевский и др. Данилевский читает курс лекций об учении Фурье.
1848, 27 февраля — создан особый комитет по надзору за печатными изданиями под председательством морского министра Меншикова. Первая акция комитета — арест и высылка в Вятку М. Салтыкова (Щедрина) за повесть «Запутанное дело».
1848, март — Петрашевский литографирует брошюру-записку «О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений» и раздает участникам дворянских выборов по Санкт-Петербургской губернии. «Самовольное распространение» этой брошюры обращает внимание III отделения на Петрашевского и его «пятницы»; за Петрашевским устанавливается негласное наблюдение. Дело поручено министру внутренних дел Льву Перовскому, а тот поручает его Ивану Липранди. Липранди начинает операцию по внедрению к Петрашевскому своего агента Петра Антонелли.
1849, начало — цикл лекций Ястржембского по политэкономии.
1849, февраль — из дворцовой охраны отряжено несколько черкесов с тем, чтобы Антонелли мог познакомить их с Петрашевским — якобы по поводу организации борьбы за права народов Кавказа. Петрашевский становится более откровенным с Антонелли, но на свои «пятницы» его все же не приглашает.
1849, 11 марта — Антонелли появляется у Петрашевского без приглашения. Сначала это возбуждает подозрение, но вскоре Антонелли становится законным членом кружка.
1849, 1 апреля — на заседании обсуждены проекты по освобождению крестьян, по реформе судопроизводства и цензуры.
1849, 20 апреля — Николай I приказывает передать все материалы и списки из министерства внутренних дел в III отделение
1849, 21 апреля — граф Алексей Орлов представляет Николаю I списки, составленные Липранди. Николай отвечает: «Приступить к арестованию… С Богом!».
1849, 22 апреля — на заседании у Петрашевского обсуждаются проблемы цензуры. Вечер заканчивается около 3 часов ночи. Через два часа после того, как гости разъехались по домам, начинаются аресты. За ночь арестовано 34 человека.
1849, 26 апреля — приступают к делу следственная комиссия под председательством И.А. Набокова и «ученая» комиссия под председательством князя А.Ф. Голицына для разбора бумаг и книг арестованных.
1849, 17 сентября — следственная комиссия заканчивает свою работу и подает доклад о «28 главных злоумышленниках».
1849, 24 сентября — по указанию Николая I создается смешанная военно-судная комиссия под председательством генерал-адъютанта графа В. Перовского.
1849, 16 ноября — военно-судная комиссия составляет приговор: 15 человек приговорено к расстрелу, двое — к каторге, один — к поселению в Сибирь, один — оставлен «в сильном подозрении», одному, как сошедшему с ума в процессе следствия, приговор отсрочен. Троих еще до начала деятельности комиссии царь повелевает освободить без суда.
1849, 19 декабря — высшая военно-судебная инстанция, генерал-аудиториат, приговаривает всех наказанных (21 человека) к расстрелу, оставленный «в сильном подозрении» Черносвитов ссылается в Вятку под строгий надзор. Но высочайше утверждается другой приговор: Петрашевский отправляется в бессрочную каторгу, девять человек приговариваются к каторге (от 2 до 15 лет), четверо отправляются рядовыми в Оренбург, четверо — в арестантские роты, двое — рядовыми на Кавказ, «оставленный в подозрении» — на жительство в Кексгольмскую крепость.
1849, 22 декабря — инсценировка казни на Семеновском плацу. Петрашевского, Григорьева, Момбелли облачают в саваны и привязывают к столбам рядом с эшафотом, солдаты прицеливаются, появляется фельдъегерь с царским «прощением». Заключенным зачитывается новый приговор. Петрашевского тут же, на плацу, заковывают в кандалы и отправляют в Сибирь. Остальных возвращают в крепость, а затем развозят по каторгам и ссылкам.
1856, 26 августа — Александр II издает Высочайший манифест о помиловании бывших участников противуправительственного заговора.