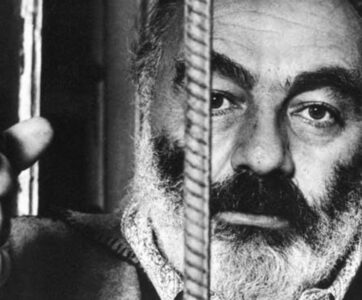Фрагмент книги «Ларс фон Триер: контрольные работы»
В 2022-м году Антон Долин внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
Отступление: Сад
Триера принято считать садистом. Не каждый прочтет за этим штампом смысл более глубокий: маркиз де Сад в самом деле с отрочества — модель для подражания и едва ли не идеал для Ларса фон Триера. Его первые романы, написанные еще до дебютных режиссерских опытов, были выдержаны в духе «проклятых» текстов скандально известного французского писателя и философа. К сожалению, их дружно отвергли все издательства, и сейчас о мере преемственности можно только гадать — вряд ли даже эксгибиционист Триер не постесняется опубликовать те пробы пера.

Сад бунтовал против рационализма философии Просвещения, Триер выступает против превращения авторского кинематографа в арт-мейнстрим.
Вообще кинематограф Ларса фон Триера глубинно литературен, и его источников не сосчитать — от Кафки в «европейской» трилогии до Томаса Манна и Достоевского, которых режиссер читал в период подготовки к «Нимфоманке». Но маркиз де Сад был его спутником с первых самостоятельных шагов и остался таковым вплоть до поздних фильмов. Об этом давно известно, с этим даже свыклись — и недаром неожиданное заявление лауреата «Золотой пальмовой ветви» о намерении снять порнофильм никого, по сути, не шокирует, все морально готовы к подобному шагу с его стороны.
Так ли много общего между художественными методами двух выдающихся порнографов? Пожалуй, нет. Здравая беспощадность де Сада у Триера заменяется повышенной, хоть временами и спекулятивной, сентиментальностью. Сад безразличен к аристотелевской композиции сюжета и не добивается катарсиса — иногда кажется, что его произведения могут длиться вечно, и ни одно из них не страдает от искусственного растягивания за счет новых эпизодов (как в «Новой Жюстине») или даже от отсутствия финала («120 дней Содома»). Триер, напротив, следит за тем, как разворачивается фабула, не позволяя зрителю расслабиться, ловя его внимание на крючок раз за разом. Сад монолитен, его стиль опознаваем и индивидуален, а Триер изобретает один стиль за другим, примеряя любые жанры. Даже юмор у них, безусловно, очень разный, хотя обоих любят обвинять в крайних формах цинизма.
Тем не менее героини, мотивы, даже основные философские посту латы Сада и Триера схожи не случайно. Объединяет их и общая стратегия — провокация, выходящая далеко за границы тривиального эпатажа, служащая базисом для коммуникации с возмущенным и заинтригованным читателем или зрителем. Но это не только и не просто стратегия, а способ познания мира. В эссе «Сад и обычный человек» Жорж Батай пишет: «…вряд ли есть чувства, вплоть до омерзения и наивного удивления, которые не возникали бы в ответ на преднамеренную провокацию. <…> О таком подходе можно думать что угодно, однако мы не пребываем в неведении относительно того, чем являются люди и какой удел уготовила им природа и их собственные пределы». Те же слова можно употребить и в отношении фильмов Триера.

Садизм этот, однако, обращен именно к «обычному человеку», пришедшему в кинотеатр или взявшему книгу с полки. Естественным образом возникавшие легенды о том, какие ужасы творили Сад и Триер в реальности, разбиваются о факты. Как известно, преследовать маркиза начали за такую мелкую провинность, как склонение к содомии продажных женщин, которым за это платили, а Триер, при всех предполагаемых перверсиях, остается человеком крайне целомудренным — настолько, что даже развелся с первой женой, ни разу не переспав с новой избранницей (ныне — верной спутницей жизни, с которой он растит всех четверых детей и которой посвящает фильмы). Крайняя жестокость Триера по отношению к его соратникам и актерам также не подтверждается ничем.
Юный Триер уклончив, даже местами стеснителен.
Даже самый вопиющий случай — скандал с Бьорк, чуть не приведший к срыву съемок «Танцующей в темноте», — позже был признан всеми его участниками глупым недоразумением, а певица просила у режиссера прощения за свою чрезмерную эмоциональность и эгоизм.
Зато читатели Сада и зрители Триера в полной мере испытали на себе умение двух выдающихся художников бить в самое больное место, с кажущейся невозмутимостью вызывая бурю эмоций в сердце чувствительного современника. В обоих случаях столь возмутительное поведение вызвано нежеланием обеспечивать комфорт, революционным нарушением взаимоотношений «производителя» и «потребителя». Сад бунтовал против рационализма философии Просвещения, Триер выступает против превращения авторского кинематографа в арт-мейнстрим, не оставляя надежд доставить публике хотя бы несколько неприятных минут. Что, разумеется, не самоцель: сам выбранный материал требует именно такого отношения, трансгрессивной атаки на все известные органы чувств.

С неуклюжих попыток таких атак Триер начинается: ими являются два первых его самостоятельных фильма, снятых еще до того, как на деятельность режиссера стала оказывать дисциплинирующее влияние Копенгагенская киношкола. «Садовник, выращивающий орхидеи» (1979) и «Блаженная Менте» (1979) — смехотворно неуклюжие и саморазоблачительно яркие манифесты садистического темперамента юного режиссера. В первом из них — кстати, экранизации одного из неопубликованных романов режиссера — главную роль Виктора Марзе, «человека со многими лицами», исполнил сам Ларс. Появляясь раз за разом в новых обличьях, от художника-авангардиста в эпатажном костюме и с длинным чубом до травести, который отрывает голову голубю и использует птичью кровь как румяна, режиссер с невиданной и вряд ли до конца осознанной откровенностью обнажает связь между творческим самовыражением и сексуальной обсессией самого непристойного свойства. А заодно обнажается сам в роли пациента загадочной клиники — худощавого, нескладного, в равной степени жалкого и трогательного. То паралитик в инвалидном кресле, то вовсе самоубийца, который некоторое время висит в петле, а потом выбирается из нее и преспокойно шагает к выходу из комнаты, он разрывается между двумя женщинами — длинноволосой Элизой, о которой он только мечтает, и ее коротко стриженной подругой, предстающей без одежды: сексуальное желание неразрывно связано с насилием, и Виктор Марзе чуть не убивает свою предполагаемую возлюбленную из пистолета.
Еврей и нацист — классическая садомазохистская пара.
«Блаженная Менте» и вовсе начинается с долгих планов обнаженного женского тела, на котором под музыку Эрика Сати медленно появляются титры. Этот получасовой фильм был поставлен по мотивам романа француженки Доминик Ори «История О». К тому моменту уже четыре года как вышел на экраны одноименный эротический фильм по этому роману, который Триеру, по его словам, совсем не понравился (хотя исполнитель главной роли Удо Кир впоследствии стал одним из ближайших друзей Триера и играл в большинстве его картин). Идея Триера в «Блаженной Менте» была простой: через незнакомый ему французский язык, на котором были написаны все диалоги, и сложносочиненный ассоциативный визуальный ряд, восходящий то к Тарковскому, то к Дрейеру, то к любимой режиссером «Индийской песне» Маргерит Дюрас (она вышла в том же 1975-м, что и «История О»), передать идею эротического желания без непосредственной стимуляции фантазии зрителя неприличными картинками. В центре сюжета — умозрительная и мучительная лесбийская любовь, все персонажи — две девушки, да безмолвный шофер автомобиля, на заднем сидении которого творится бог знает что: в этой — единственной мужской — роли занят сам автор. Здесь еще нет обезоруживающей прямоты Сада — юный Триер уклончив, даже местами стеснителен, и будто нарочно выбирает чужой язык, чтобы рассказывать о разного рода «неприличиях». Однако тема сексуальной инициации в монастыре, с которой начинается, например, «Жюльетта», откровенно восходит к прозе маркиза. К тому же центральная идея и «Истории О», и «Блаженной Менте», и, если на то пошло, «Садовника, выращивающего орхидеи» — наслаждение через боль, самореализация через испытанное и причиненное другим страдание.

В этих двух — в равной степени ужасающих и любопытных — картинах, как в зародыше, можно увидеть всего будущего Триера. Не так уж велика дистанция от обнаженной хлипкой фигуры молодого режиссера в «Садовнике…» до уже набравшего вес, но такого же нелепого лауреата Канн, выходящего к съемочной группе «Идиотов» совершенно голым, чтобы попытаться их раскрепостить (и, возможно, достигнуть противоположного эффекта). Обнажение как метафора метода, прозрачный намек на предельную откровенность в выражении эмоций — еще и дань уважения Йоргену Лету, преподавателю Триера по Киношколе, чей знаменитый фильм «Добро и зло» (1975) Триер неизменно включает в число своих любимых. В той странной картине о природе человека, его горестях и радостях, вполне пригодной для отправки в космос безвестным инопланетянам, артисты без стыда обнажались, чтобы приравнять тело к душе. Сходную задачу ставит и Триер, как перед самим собой, так и перед артистами.
Однако порнография не равна садизму, к которому Триер испытывал особенные чувства.
Другая важная подробность садистского бэкграунда Триера — мундир эсэсовского офицера, который его альтер эго впервые примеряет в «Садовнике…». Протестуя против антифашистского прошлого своих родителей и их поколения, режиссер эпатажно возвеличивает эстетику Третьего рейха. Герой первого его профессионального фильма, «Картин освобождения», — немецкий офицер-мученик, которому автор явно симпатизирует. Интерес к нацистской символике и идеологии выражен в полной мере в «Европе», где главный герой испытывает как минимум двойственные чувства в отношении семьи знакомых немцев, бывших функцио неров гитлеровского государства. Фамилия семейства — Хартман; такова фамилия биологического отца Триера — немца, о родстве с которым режиссер узнал через много лет после смерти воспитавшего его приемного отца, еврея Ульфа Триера. Болезненный интерес режиссера к нацизму уравновешен столь же пристальным вниманием к еврейству — он сам играет евреев, о чем зрителю сообщается особо, в «Садовнике…», «Элементе преступления» и «Европе», и его двойник Селигман в «Нимфоманке» позволяет себе отдельный монолог на тему «евреев-антисионистов», явно имеющий для Триера автобиографический смысл. В этом и корни опасной шутки о симпатии к Гитлеру, которую режиссер позволил себе на пресс-конференции в Каннах. Еврей и нацист — классическая садомазохистская пара; недаром искусство (в частности, кинематограф) ХХ века так часто находило в событиях Холокоста сюжет, восходящий к маркизу де Саду. Особенно очевидно это в двух фильмах, страстным поклонником которых Ларс фон Триер объявлял себя с молодых лет — «Ночном портье» Лилианы Кавани и «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини.

Оба эти фильма частью прессы и зрителей объявлялись порнографическими. Но если для многих серьезных художников подобное обвинение звучало оскорбительно, то Триер воспринял его как комплимент. Он всегда мечтал снять порнофильм и впервые приблизился к осуществлению замысла в «Идиотах»: Стеллан Скарсгорд вспоминал, как режиссер звонил ему и возбужденно рассказывал, что в его новой картине будет порнографический эпизод, а в подробности собственно замысла или сюжета при этом не хотел даже вдаваться, считая их незначительными. К слову, сама идея постановки чего-то совместно с умалишенными, хоть и мнимыми — впрочем, в «Идиотах» есть и эпизод с людьми, страдающими от синдрома Дауна, — косвенно восходит к любительским театральным спектаклям, которые маркиз де Сад осуществлял с участием пациентов клиники для душевнобольных Шарантон, где он был заключен.
Уже первый его фильм «Рассекая волны» немалой своей частью переносит на экран сюжет «Жюстины» маркиза де Сада.
Относительная неудача, то есть неспособность артистов на самом деле заняться групповым сексом и необходимость позвать на съемочную площадку профессиональных порноактеров (строго говоря, это нарушало «догматический» обет целомудрия), не расстроила Триера. В начале 2000-х он, уже будучи совладельцем крупнейшей в Дании независимой продюсерской компании, бросил клич о поиске режиссеров-женщин, согласных под его руководством осуществить постановку порнографических фильмов. Тем самым он хотел реабилитировать порнографию — по мнению Триера, один из чистых видов кинематографического высказывания, а заодно эмансипировать дам, как правило, далеких от режиссерской профессии в рамках этой специфической индустрии. В результате на свет появились такие картины, как «Констанция», «Розовая тюрьма» и «Все об Анне». Их коммерческий успех в Западной Европе, как принято считать, привел к появлению новой волны порнокинематографии, авторами и основными потребителями стали именно женщины. Это, в свою очередь, стало веским аргументом в пользу легализации порнографии в Норвегии, случившейся в 2006 году.
Однако порнография не равна садизму, к которому Триер испытывал особенные чувства. Можно даже сказать, что чистая порнография в его творчестве занимает то же вспомогательное место, что в творчестве Сада. Его «нормальные», изданные под собственным именем, романы: «Алина и Валькур», «Преступления любви», «Маркиза де Ганж». Они интересны как дополнительные штрихи к портрету художника, а в остальном отражают мейнстрим своего времени, с небольшой поправкой на индивидуальный почерк и систему взглядов автора. Мейнстрим изрядно изменился за это время: Сад был вынужден публиковать свои радикальные тексты анонимно, а имя Триера, напротив, по воле издателей появлялось на обложках DVD с порнофильмами, спродюссированными его студией.

Чуть поумерив свои садистические склонности в «трилогии Европы» — строгость замысла требовала умерить сексуальные страсти (однако находящие выход то в жестоких эротических сценах «Элемента преступления», то в эпизоде похорон заживо в «Эпидемии»), Триер полноправно возвращается к ним в следующем цикле, посвященном участи «золотого сердца». Уже первый его фильм «Рассекая волны» немалой своей частью переносит на экран сюжет «Жюстины» маркиза де Сада. Поначалу о классическом тексте ничто не напоминает: деревенская простушка выходит замуж за дюжего рабочего с нефтяной вышки, их эротическая жизнь полноценна и счастлива. Хотя даже на этом этапе Бесс одержима близостью с Яном и не в состоянии отпустить его от себя даже ненадолго. После аварии, обездвиживающей мужа, он просит жену найти себе любовника — и вскоре за этой, мнимо-прагматической схемой вырастает психопатологическая подоплека. Навсегда лишенный способности заниматься сексом Ян тешит свой помутненный рассудок фантазиями об эротических приключениях своей возлюбленной, а та вбивает себе в голову, будто секс с незнакомыми мужчинами способен исцелить больного. Попытка соблазнить симпатичного доктора завершается неуспехом — именно потому, что секс обязан быть жертвенным; Бесс должна добровольно подвергнуться насилию без намека на эмоции с ее стороны. Так, начав с незнакомого пожилого мужчины в рейсовом автобусе, она постепенно превращается в местную проститутку и парию, чья жизнь заканчивается после изнасилования таинственным хозяином корабля — судя по всему, исчадием ада.
Отдаваясь жителям Догвилля, Грейс не надеется смягчить их сердца.
Мир, показанный в «Рассекая волны», устроен еще по законам реализма: жестокость окружающих связана с их недостаточной информированностью о подоплеке поведения Бесс. К тому же, чисто сексуальный садизм проявляют очень немногие — пожалуй, только капитан-насильник, сыгранный Удо Киром, полностью отвечает стереотипу садовского либертена. Зато Бесс — единственная невинная душа среди скептиков-прагматиков, вопреки всему верящая в Бога и его милость, — действительно напоминает Жюстину. Она задает типаж, переходящий к Карен в «Идиотах» и Сельме в «Танцующей в темноте»: жертва «золотого сердца», с каждым следующим фильмом все более искусственная и в конечном счете менее необходимая, есть обязательное условие ее существования, как для Жюстины — роль вечной страдалицы, чья стойкая и бессмысленная приверженность добру влечет за собой новые испытания.

Окончательно разочаровавшийся в католичестве Ларс фон Триер пришел к безверию маркиза де Сада.
В Догвилле и Мандерлее — подчеркнуто условных, нарисованных мелом и углем на полу павильона, — Грейс становится преемницей «золотого сердца». В первом из этих фильмов она, доверившись доброте незнакомых людей, вскоре оказывается у них в рабстве, в том числе сексуальном. От единичного изнасилования к насилию системному, повседневному, будничному, она становится жертвой в совершенно садовском духе. Отдаваясь жителям Догвилля, Грейс не надеется смягчить их сердца: осознанно или нет, она проводит чистый эксперимент, приводящий к самым неутешительным выводам в совершенно садовском духе. Мир делится на сильных и слабых, первые чинят насилие в отношении вторых, и чем ты сильнее — тем меньше риск быть подвергнутым наказанию. В финале Грейс не только мстит Догвиллю, но и подписывает собственную капитуляцию: победить можно только правом абсолютной силы, отменяющей представления о добре и зле.
В «Мандерлее» мы встречаем ее уже в новом качестве — вооруженной до зубов. Спасая угнетенных черных рабов от белых рабовладельцев, Грейс, казалось бы, противодействует будничному садизму старой расистской Америки. Но очень скоро выясняется, что и здесь действует только закон силы, даже если применяется она во благо, а насаждение блага при помощи силы моментально превращает его в зло. Если над «Догвиллем» еще веял дух любви — невидимой, но внушающей надежды на избавление, то в «Мандерлее» она подменяется инстинктом насилия и сексуальным возбуждением от контакта с человеком другой расы. Грейс в двух фильмах сыграна разными актрисами, Николь Кидман и Брайс Даллас Ховард. Триер думал над тем, чтобы в третьей части неосуществленной трилогии «U. S. A.» играли они обе, превратив двух Грейс в сестер — по принципу садовских Жюстины и Жюльетты, благочестивой жертвы и бесстыжей либертинки. Однако замысел, вероятно, показался слишком сложным: «Васингтон» так и не был снят.
Движение от Жюстины к Жюльетте, однако, все-таки реализовалось в «Нимфоманке» — картине, которая, по словам автора, вдохновлялась большими романами рубежа XIX и XX веков, в особенности «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Тем не менее, вне зависимости от замысла Триера, влияние «Жюльетты» в этом фильме ощутимо куда отчетливее. Как и magnum opus маркиза де Сада, «Нимфоманка» безразмерна и неподъемна. По жанру это тоже роман воспитания, история молодой женщины, чьи приключения — результат ее неуемных сексуальных аппетитов. Наконец, композиционный принцип напоминает Сада: у него после каждой, тщательнейшим образом описанной сцены оргий непременно следует монолог распутника-теоретика, обосновывающего все происходящее как совершенно естественный процесс. В этой роли у Триера выступает Селигман — по иронии автора, девственник и при этом адвокат Джо, защищающий ее право на нимфоманию и девиантное поведение. Его естественно-научные рациональные отступления абсурдно контрастируют с эпизодами жизни героини, и их противоречие шокирует и развлекает зрителя не меньше, чем философствование интеллектуалов-распутников у Сада, способных безжалостно изнасиловать и убить невиновного, а затем подробно и с юмором обосновать свои действия. Триер играет на той же двойственности — умозрительность избыточной рассудочности, прерывающей акт наслаждения (ищущей чувственного удовлетворения героини и потенциального зрителя-вуайериста), чередуется с мощными эротическими образами, подчас никак напрямую не связанными с основной линией сюжета. Это тоже своеобразные дигрессии, отступления.

К примеру, таков рассказ анонимной участницы группы психологической помощи нимфоманкам, которая в отсутствие мужа отдавалась толпе незнакомых мужчин на куче угля, на протяжении трех часов. С другой стороны, «Нимфоманка» в каком-то смысле переворачивает ситуацию садовской прозы. В ней более или менее наивная героиня оказывается заложницей (ученицей) циничных либертенов — хозяев мира. У Триера единственная подлинная либертинка — сама героиня, Джо. Она бескомпромиссна в своих плотских желаниях, но никто из ее временных союзников, друзей, любовников и любовниц не готов идти за ней в их осуществлении до логического конца. Одни ищут в сексе выгоду, другие — удовлетворение амбиций, третьим нужны сантименты. Поэтому вместо мира тотального преступления, которым всегда является мир книг Сада, у Триера возникает мир лицемерных и условных правил, где одинокая либертинка вынуждена провозгласить себя преступницей. Это и происходит сначала в главе «Зеркало», где Джо отказывается каяться и менять жизненную философию, а потом в финальном эпизоде «Пистолет», в котором героиня оказывается по ту сторону закона и совершает покушение на убийство.
Как и у Сада, это не просто безличный пейзаж той или иной степени живописности, но движущая сила, будящая животное начало человека.
Говоря об основных постулатах маркиза де Сада, нельзя ограничиться одной только сексуальностью. В преступление ее превращает неотъемлемый от удовлетворения плоти атеизм, то есть отмена европейских представлений о добре и зле, замена Бога всемогущей, но безразличной к морали Природой. С каждым следующим фильмом Триер все больше вдумывается в этот посыл, оформляя его разными сюжетами и жанрами. «Антихриста», «Меланхолию» и «Нимфоманку» уже объединяли, без согласия автора, в «трилогию депрессии» или «трилогию Шарлотты Гэнзбур», но с таким же успехом можно провозгласить ее трилогией атеизма.
Окончательно разочаровавшийся в католичестве Ларс фон Триер пришел к безверию маркиза де Сада, которое в его книгах всегда неразрывно связано с познанием — и это отражается в отрывочно-энциклопедической структуре «Нимфоманки».
Тесная связь религиозных взглядов с сексуальностью прослеживается уже в «Антихристе». Отчаяние родителей, потерявших ребенка, так безоговорочно и страшно лишь потому, что ни одна умозрительная система взглядов не способна доказать им целесообразность произошедшего.

Сексуальный акт — жертвоприношение Сатане, церковью которого является Природа.
Отправляясь в лес к «Эдему», герои надеются повернуть время вспять — до грехопадения, но оказываются один на один с Природой. Как и у Сада, это не просто безличный пейзаж той или иной степени живописности, но движущая сила, будящая животное начало человека. Стоит ее пробудить, и инстинкты заставляют терзать, мучить, калечить друг друга. Более того, случайная катастрофа обретает зловещий смысл: ребенок погиб не просто по недосмотру, но потому, что увлеченные совокуплением родители позволили ему выпасть из окна. Сексуальный акт — жертвоприношение Сатане, церковью которого является Природа. Там, где она правит бал, мораль и здравый смысл исчезают. Отсюда та темная иррациональная энергия, которая так отталкивала в фильме многих поклонников прежнего, рационального Триера.
И в «Меланхолии» главная героиня недаром получает имя любимой героини маркиза де Сада Жюстины, роман о которой он переписывал дважды. Забавно, что сексуальных перверсий как таковых в картине практически нет, разве что можно вспомнить случайный секс с жалким клерком посреди церемонии, на поле для гольфа, чтобы десакрализовать ритуал свадьбы. Зато Жюстина — носительница атеистической трезвости в мире, упивающемся разного рода иллюзиями. Она знает точно, хоть и неизвестно откуда, что жизнь на Земле возникла не по воле Бога, а случайно, в результате сбоя, и во вселенной мы одни. Теперь эта ошибка будет исправлена, а основанная на лжи и лицемерии цивилизация наконец-то исчезнет. Так повелел Космос — то есть Природа.

У Природы нет никаких запретов, сами люди сочиняют законы, которые самым мелочным образом ограничивают их свободу. Законы и обычаи зависят от того, холодно или жарко в данной стране, плодородна или бесплодна почва, от климата и типа живущих там людей, и эти непостоянные факторы формируют наши манеры и нашу мораль. Человеческие законы и постановления — это всегда и неизбежно путы и оковы, они ничем не освящены и ни на чем не основаны с точки зрения философии, которая моментально обнаруживает ошибки, разоблачает мифы и дает умному человеку знания о великом промысле Природы. Аморальность — вот высший закон Природы: никогда не опутывала она человека запретами, никогда не устанавливала правил поведения и морали.
Слова, которыми аббатиса Дельбена напутствует юную Жюльетту, героиню романа Сада, могли бы прозвучать в любом из поздних фильмов Ларса фон Триера. Хотя он обходится и без слов — хватает музыки Вагнера, выражения лица Кирстен Данст и образа голубого величественного шара, который вот-вот уничтожит все то, что на протяжении тысячелетий создавал человек.