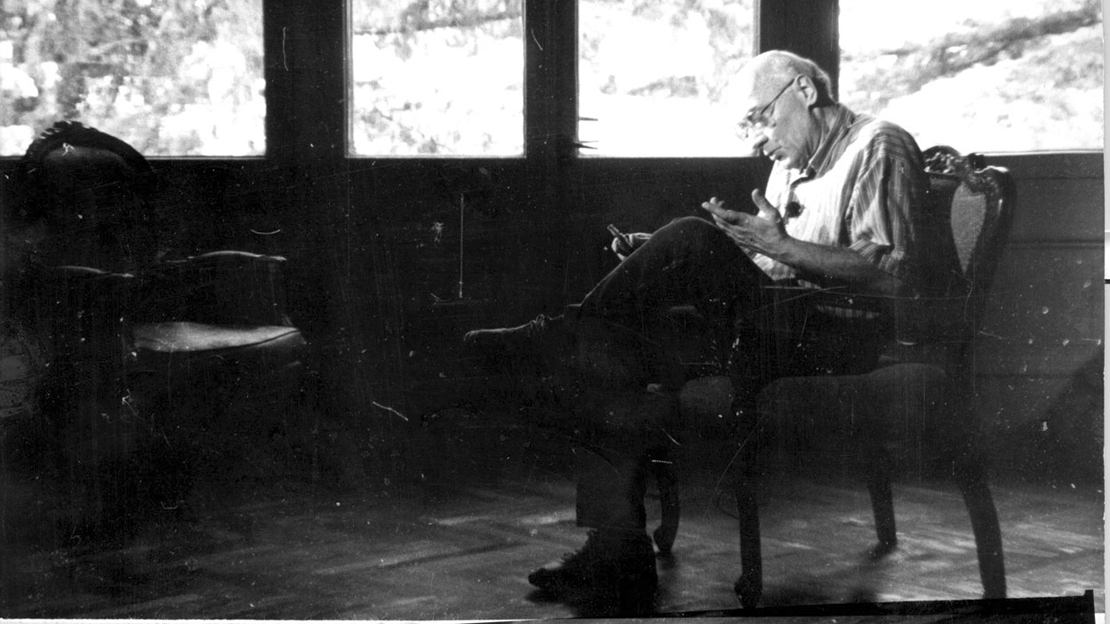Отцы и сыновья. История вопроса
СЕАНС — 21/22
Бог-Отец творит Адама по своему образу и подобию, «сын Бога» существует в Раю, оберегаемый милосердным Отцом. Но библейская история начинается с непослушания сына, вкусившего запретный плод и навсегда изгнанного из Рая. Отныне он сирота, проклятый Отцом, вынужденный скитаться по земле и в поте лица добывать свой хлеб. В христианстве преступление Адама стало неизбывным первородным грехом всего рода человеческого — и каждый рождающийся младенец уже не безгрешен. Следующий ветхозаветный сюжет — братоубийство: Каин убивает Авеля, бросает вызов Творцу — и становится основателем первого города и символом бунта в мировой культуре. Богоборчество и восстание против Отца, как правило, сопутствуют друг другу.
Если верить доктору Фрейду, чьи идеи столь сильно повлияли на кинематограф — от Эйзенштейна до Пазолини и Бертолуччи, — именно отцеубийство является изначальным преступлением человека. Но справедливо и обратное — сыноубийство «распространено» едва ли меньше. Уже в греческих мифах Сатурн (Хронос) пожирает своих детей из страха, что они уничтожат его и займут его место. Отцы убивают своих детей почти столь же часто, как и дети отцов. Вслед за «веком невинности», после «смерти Бога», искусство ХХ столетия окончательно разрушит образ Отца как гаранта социального космоса. На смену почитанию Отца, патриархальной семейственности и взаимной любви придут нестроение, соперничество, бунт, ненависть, отце — и сыноубийство, сиротство и скитальчество — извечные архетипы человеческой истории.

Отцеубийца-сирота
(«Царь Эдип», Пьер Паоло Пазолини, 1967)
В «Царе Эдипе» античный миф о несчастном фиванском царе парадоксальным образом сочетается с христианской легендой об Агасфере, Вечном Жиде. Мотив отцеубийства жестко задан уже в прологе, разворачивающемся в начале ХХ столетия. Молодой офицер (отец Пазолини принадлежал к военной аристократии) со страхом и ненавистью смотрит на своего первенца: «Ты пришел, чтобы занять мое место в этом мире и отнять все, что я люблю». Центральная сцена фильма — предсказание оракула, что Эдип убьет своего отца и женится на собственной матери. Потрясенный Эдип пытается уйти от Судьбы, обмануть Рок, избежать страшного преступления. Но провидение неумолимо ведет его в Фивы: Эдип сбрасывает в пропасть Сфинкса, терроризирующего город («Пропасть, в которую ты меня толкаешь, — в тебе самом», — успевает сказать ему Сфинкс), убивает отца и женится на матери, не ведая, кто они; а узнав свою и их тайну, ослепляет себя. Съемки картины велись не в «светлой» классической Греции, а в выжженных солнцем пустынях Северной Африки, символизирующих начало человеческой истории. Трактовка Пазолини совпадает с мифологемой Фрейда, что убийство праотца является моментом рождения человечества.
Отцеубийца Эдип — первый человек и первый сирота одновременно, проклятый богами и, подобно Вечному Жиду, обреченный на бессмертие и тысячелетние скитания. В последних кадрах фильма ослепший, обезумевший Эдип-Агасфер бредет по Риму 1960-х, среди машин и туристов; он — alter ego Пазолини и наш современник. Появление «Царя Эдипа» почти точно совпадает с началом движения «контестации» — самого бунтарского направления в итальянском кино. Мало где и когда сыновья настолько ненавидели своих отцов, как в Италии конца 60-х. Пазолини, бывший кумиром для многих лидеров этого движения, сам в него не вписывался (ибо был старше и «аристократичнее»). И тем не менее «Царь Эдип» оказался, пожалуй, самым откровенным и вместе с тем самым глубоким высказыванием на тему «отца и сына» в европейском кино 60-х — в эпоху леворадикальных молодежных бунтов.

Каин, Авель и Отец-праведник
(«К востоку от рая», Элиа Казан, 1954)
В своем романе, который лег в основу фильма, Джон Стейнбек пронизывает сюжет об одном американском семействе времен Первой Мировой войны ветхозаветными мотивами. Отец семейства Адам, потомок пуритан, когда-то заселивших cевероамериканский континент, — воплощенное благородство и добродетель; он состоятельный фермер, но, согласно протестантской этике, дело для него важнее прибыли. Он любит своего «правильного» и законопослушного сына Арона (Авеля), но странным образом не может полюбить старшего, Кэла (Каина). Ибо не может понять его: непредсказуемого, «порочного», пугающего и обаятельного одновременно, мучительно переживающего отцовскую нелюбовь и всячески стремящегося ее завоевать. В их жизни есть тайна: когда-то давно из семьи ушла мать, бросив потрясенного отца и двоих детей. Поступок кажется чудовищным вдвойне, ибо она ушла не от тирана, а от добродетельного мужа, который «дал ей все, о чем только женщина может мечтать». Здесь-то и коренятся истоки бунта Кэла, мучающегося в поисках собственной идентичности и отождествляющего себя со своей «порочной» матерью, ставшей хозяйкой публичного дома.
Всякая мораль, пусть самая прекрасная, принудительна. А мать и Кэл — «не как все»: они проявляют своеволие, преступают ветхозаветные заповеди, ибо свобода для них важнее любой морали. Фильм о распаде патриархальной семьи с блестящей игрой Джеймса Дина в главной роли сегодня выглядит вполне невинно и столь же патриархально. Грядущие бунтари — как, впрочем, и их отцы — будут и жестче, и страшнее.
Сыноубийство и классовая борьба
(«Бежин луг», Сергей Эйзенштейн, 1935–1937)
Все трактовки «Бежина луга» можно свести к трем версиям: согласно первой, Эйзенштейн вместе со сценаристом Ржешевским (бывшим чекистом) охотно взялся выполнить социальный заказ — поставить фильм о «Павлике Морозове» — и тем самым оказался среди пропагандистов одного из наиболее позорных тоталитарных мифов вместе с Горьким, Бабелем, Сергеем Михалковым и др. Другая версия, напротив, всячески пытается обелить режиссера и представить ситуацию таким образом, что сюжет о «классовом сыноубийстве» навязан Эйзенштейну исключительно «сверху». Он же, как подлинный художник, пытался использовать его для своих эстетических экспериментов, за что был ошельмован как «формалист». Картина была закрыта и уничтожена, а режиссер выступил с публичным покаянием. Наконец, третья, психоаналитическая версия интерпретирует «Бежин луг» как попытку поклонника Фрейда реализовать фундаментальный сюжет собственной жизни о конфликте Сына и Отца и создать классическую трагедию на материале не слишком его интересовавшей «классовой борьбы» в советской деревне 1930-х годов. Если смотреть сохранившуюся «нарезку» вполне отстраненно, то справедливы все три: налицо история пионера-доносчика, пропагандистский пафос и отвратительная советская антирелигиозная риторика — богоборчество и бунт против отца слиты воедино. Очевиден и экзистенциальный подтекст трагедии. В самом начале фильма мать убита отцом («потому что хорошо сына понимала»); Сын и Отец изначально противостоят друг другу в извечной «эдиповой» вражде. Но масштабность эйзенштейновских образов придает происходящему характер мистериального действа: сын нарушает библейскую заповедь, и его гибель становится актом возмездия.
Царь и сын
(«Петр I», Владимир Петров, 1937–1938;
«Царевич Алексей», Виталий Мельников, 1997)
Возвращение российскому народу понятия Отечества и национальной памяти породило серию сталинских псевдоисторических блокбастеров, долженствовавших обосновать перемены, происходившие в стране. Петр I в хрестоматийном исполнении Николая Симонова в первую очередь выполняет функцию «отца нации», предшественника «отца народов»: грозного, строгого, но справедливого реформатора, ставящего величие государства выше личных интересов и кровно-родственных связей. Царевич Алексей (Николай Черкасов) выступает в качестве записного злодея, который ради сохранения старой Руси и тихой частной жизни в Москве в духе своего деда Алексея Михайловича готов вступить в союз с любыми «силами тьмы», включая римского Первосвященника. Мифологический суд Сената, которому Петр отдает царевича на заклание, создает иллюзию законности — прямая историческая параллель с политическими процессами 1930-х годов. Еще одна аналогия — будущая судьба сына Сталина, попавшего в плен во время войны, которого, согласно апокрифу, «вождь всего прогрессивного человечества» отказался променять на немецкого генерала, предпочтя интересы государства жизни собственного сына.
Шестьдесят лет спустя, в эпоху кризиса самой государственной идеи, Виталий Мельников с точностью до наоборот переворачивает эту схему, вынося за скобки все почвенническо-западнические коннотации конфликта между сыном и отцом. Чистый, кроткий, смиренный царевич Алексей (Алексей Зуев), чурающийся любой власти — а тем более власти отца (Виктор Степанов), построенной на крови, — упрямо отстаивает свое право на частную жизнь в царстве свирепой государственности. Он выглядит своеобразным «князем Мышкиным» русской истории, который живет среди людей, одержимых похотью власти, и гибнет от рук своего пассионарно-деспотического отца.

Безотцовщина: старший брат как отец
(«Два Федора», Марлен Хуциев, 1958;
«Судьба человека», Сергей Бондарчук, 1959)
Тема безотцовщины в стране, обескровленной войной и репрессиями, в советском кино 1950–1960-х годов звучит особенно пронзительно. СССР — государство тотального сиротства. Полноценная семья была редкостью: чаще всего — отец без сына или сын без отца. В атеистическом обществе человек, потерявший земного отца и утративший Небесного, — сирота вдвойне, его одиночество абсолютно. «Два Федора» начинаются тем, чем «Судьба человека» заканчивается. Возвращающийся с войны солдат, потерявший близких, усыновляет мальчишку-беспризорника. Если у Бондарчука — это утешение герою после нескончаемых страданий, то у Хуциева — начало новой драмы. Вся сложность ситуации именно в том, что Федор-большой, по возрасту являющийся старшим братом Федору-маленькому, одновременно должен быть и его отцом. Реабилитация частной жизни и естественных человеческих чувств — главная тема послесталинского кинематографа. «Два Федора» — первый фильм в отечественном кино, оправдывающий любовь-ревность в самом изначальном смысле этого слова. По Далю, ревность — это, прежде всего, «горячее усердие, старание, стремление к добру». Ревнующий человек — тот, кто страстно отстаивает собственные ценности. (Значительно позднее в русском языке понятие «ревность» получит исключительно отрицательные коннотации.) Осиротевший мальчик всеми правдами и неправдами отстаивает только что приобретенного отца, протестуя против внезапного появления нежданной «мачехи». Мальчик прав именно потому, что Федор-старший ответственен в первую очередь за него — прирученного сироту. Он борется, ревнует всеми силами своей души и, в конечном счете, добивается своей цели, а зритель неизбежно оказывается на его стороне.
Взрослый ребенок и несчастный отец
(«Похитители велосипедов», Витторио де Сика, 1948)
Нужда и бедность всегда способствуют быстрому взрослению. В неореалистических фильмах дети живут точно так же, как и взрослые, и потому часто не имеют детства. Детство — роскошь, доступная богатым или обеспеченным, у бедняков его совсем мало. В классической картине де Сики сын, которому нет и десяти, уже имеет работу, тогда как безработный отец перебивается случайными заработками. Мальчик на равных участвует в поисках украденного велосипеда; когда отцу угрожает опасность, он вовремя приводит полицейского. Отец срывает на нем свою злость, но мальчик понимает, что не имеет права долго обижаться и капризничать: ведь сын несет все бремя семейных — и вообще жизненных — тягот в той же мере, что и отец. Они оба равно обделены, унижены и возвышены — маленькой историей с похищенным велосипедом, Большой Историей постфашистской Европы. Они оба равно взрослы, потому что равно ответственны за случившееся: ведь помощи ждать неоткуда.
В знаменитых финальных кадрах сын, всхлипывая и утирая лицо платком, ведет по улицам Рима своего униженного и несчастного отца. Переживает за него так, как обычно взрослые переживают за детей. По сути дела, именно этот, слишком рано повзрослевший ребенок, и является главным героем фильма. В послевоенном мире отсчет времени словно бы начинается с нуля: более нет ни возрастов, ни разницы в поколениях. Ни взрослых, ни детей — просто люди, пытающиеся выжить. Ни отцов, ни сыновей — просто мужчины.
Шестидесятники: тени отцов
(«Застава Ильича», Марлен Хуциев, 1964)
Почти во всех фильмах Хуциева отсутствует отец. В «Заставе Ильича», впрочем, есть «ложный» отец — отец Анны (Марианна Вертинская), сталинист, «ретроград», знающий ответы на все вопросы и вещающий газетными штампами, в чьи уста авторы, однако, вкладывают важную «циничную» реплику, которая коробит юных идеалистов: «Вас сомнут, задавят, не верьте людям, вы никому не нужны… Никто не подумает о вас, если вы не подумаете о себе».
Как и в «Отце» Иштвана Сабо (фильмы почти одновременно вышли на экран), подлинный отец, погибший на войне, возникает как тень, как воображаемый образ. Но если у Сабо отец мальчика всегда рядом с сыном, то у героя Хуциева и Шпаликова, двадцатилетнего русского Гамлета (Валентин Попов), есть лишь один эпизод, одна возможность спросить у призрака отца: «Как жить?» — и не получить ответа.
«Сколько тебе лет?» — вопросом на вопрос отвечает сыну погибший отец. «23», — говорит сын. — «А мне 21». Ответа нет, потому что вопрос задать некому: погибшие отцы теперь уже младше подросших сыновей.
Именно эта невинная сцена страшно возмутила очередного «отца нации», устроившего фильму настоящий разгром. Но в каком-то смысле Хрущева можно понять: отсутствие смысла бытия — главное философское «открытие» фильма шестидесятников. Мы в самом деле больше не знаем, как жить; мы выброшены в бесконечность этого прекрасного и столь поэтичного мира, где нет Бога и ясной цели, где единственной опорой являются стихи и друзья, — мира, где, в конце концов, будет побеждать зло.

Отец как образ совершенства
(«Отец», Иштван Сабо, 1966)
Ребенок теряет молодого отца в последний год Второй Мировой войны: тот гибнет не как герой, а умирает от остановки сердца. У мальчика осталось крохотное наследство — три воспоминания об отце и несколько вещиц: часы, очки, пенсне, перочинный нож, бинокль, саквояж врача, кожаный плащ, бритва, пиджак, мундштук… Когда мальчик «плохо» себя ведет, все — от матери до школьной учительницы — попрекают его памятью отца: «Вот если бы отец был жив! …» Но никто не ведает, насколько сын любит его, — Его, которого он почти не знал. Никто не подозревает, что для него отец — это все, а любая из оставшихся вещей бесконечно драгоценна. И жизнь с отцом в мечтах и фантазиях реальнее повседневного сиротского существования. Отец обаятелен, интеллигентен и мужествен одновременно; отец — милосердный врач и герой Сопротивления; отец — веселый, умный, добрый и удивительно живой. Убогая и страшная проза жизни не коснулась его. Эдипа вместе с Софоклом, Достоевским и Фрейдом можно спокойно сдать в архив: герой фильма Сабо — идеальный Отец, такой, какого мечтал бы иметь каждый, тот образ совершенства, который возможен лишь в нашем воображении.
Мировое сиротство
(«Солярис», 1972, Андрей Тарковский)
Согласно словарю Даля, сиротство — это не столько потеря родителей, сколько состояние утраты. Все, что утрачено человеком (природа, дом, отечество, любовь, дети, ближние, даже лошадь у казака), ввергает его в сиротство, в состояние одиночества и неприкаянности. Это удел всех героев Тарковского, начиная с «Иванова детства» и «Андрея Рублева» вплоть до «Зеркала», «Ностальгии» и «Жертвоприношения». Но именно в «Солярисе» сиротство раздвигается до масштабов космоса. Человек, отправляющийся в запредельные пространства, утрачивает все — отца, семью, Землю, а его возвращение не гарантирует встречи с ними, ибо время в космосе течет совсем иначе, чем время на Земле. Поэтому все, что оставляет Крис Кельвин (Донатас Банионис) в прологе фильма, должно писаться с большой буквы; трава является Травой, лошадь — Лошадью, дом — Домом, а отец — Отцом. Отец в «Солярисе» (Николай Гринько) — это собирательный образ всечеловеческого Отца: интеллигентного, заинтересованного, любящего, прекрасного, мудрого, предупреждающего слишком самоуверенного сына о грозящих ему опасностях и о «хрупкости» космического пространства. Расставание (согласно «парадоксу близнецов») происходит навсегда, и все возможные варианты возвращения лишь мыслимы, как и несколько литературная сцена «возвращения блудного сына», которую создает в воображении Криса океан Соляриса. Человек, отправившийся в Космос, на самом деле никогда не сможет вернуться на Землю.

«Отец народов» и дети ХХ съезда
(«Покаяние», Тенгиз Абуладзе, 1984)
Когда сегодня прилавки книжных магазинов вновь завалены опусами о «великом и мудром», главный политический фильм советского кино последних десятилетий воспринимается совсем иначе, чем в момент выхода на экран.
Любой вождь, монарх, диктатор неизбежно исполняет роль Отца. Подданные — его дети, он всегда с ними, он печалится, заботится и думает о них, наставляет на путь истинный. И не столько вождь создает то общество, которым он управляет, сколько коллективное бессознательное нации творит своего правителя, которому всегда приписываются сакральные, в том числе и божественные функции. Чувство вселенского сиротства, охватившее большую часть нации в марте 1953 года, три с половиной десятилетия спустя сменяется эпохой «коллективного прозрения». Этому полностью соответствует фильм Абуладзе, которому удалось предугадать главную коллизию перестроечного времени. Кульминация «Покаяния»: после самоубийства внука, узнавшего о злодеяниях деда, прозревший сын выбрасывает тело отца с огромного холма в сторону города на суд современников. Драматический парадокс эпохи заключается в том, что эксгумацию, аналитику и «суд истории» производят «блудные дети» Отца, дети ХХ съезда, пятидесятники-шестидесятники, в детстве или юности благоговевшие перед «великим учителем», который часто заменял им погибших родителей. «Отец» же в эпоху прозрения становится главным злодеем и «козлом отпущения», по сравнению с которым злодеяния его предшественников и соратников кажутся несущественными. Он один виновен во всем. В «Покаянии» смысловой уровень ограничивается лишь драмой деда-тирана, сына и внука, но резонанс картины свидетельствуют о трагедии народа, привыкшего к патернализму. И все коллективное сиротство нации теперь направлено на избиение жестоко обманувшего вождя и поиски нового патриарха. Но новый отец не появляется (вернее, он снова обманывает), на смену отцу-диктатору приходят дети-мафиози (что точно отмечено у Абуладзе), которые и определяют атмосферу посткоммунистической эпохи. Люди брошены властью на произвол судьбы, но десятилетия патернализма не проходят даром — поиски нового Моисея, способного спасти народ от власти «золотого тельца», неизбежны.
Сын-сомнамбула
(«Мой друг Иван Лапшин», 1984,
и «Хрусталев, машину!», 1998, Алексей Герман)
Чтобы осознать исключительную важность темы «отца и сына» в поэтике Алексея Германа, можно было бы даже и обойтись без сцены с телефонным доносом в «Хрусталеве».
Все его фильмы — от «Проверки на дорогах» до «Хрусталева» — память о непрожитом, но ощущаемом как собственный опыт: об эпохе если и не отца, то — отцов. Один из самых душераздирающих эпизодов фильма — когда мальчик видит вернувшегося отца и спешит звонить «дяде следователю», исполняя его строгие инструкции. По сути дела, этот эпизод — экранизация Главного Страха Советского Ребенка: страха предательства. А вдруг меня будут пытать, и я скажу, где партизаны. А вдруг меня возьмут в плен, и я не застрелюсь на поле битвы. А вдруг мне доверят ответственное задание, а я струшу, сдрейфлю, окажусь не на высоте. А вдруг — я предам собственного отца, чтобы из того Ада, в котором оказался с матерью, не оказаться в другом аду — еще более страшном.
Когда Герману дали знаменитый список поправок к «Начальнику опергруппы» (впоследствии «Мой друг Иван Лапшин»), бестрепетной рукой он выполнил ту самую, где ему порекомендовали ввести мальчика и его голос за кадром: как будто все происходящее на экране увидено его глазами, глазами ребенка. Что же было и не выполнить эту «поправку» — если она целиком соответствовала сути дела.
Мир Германа — это мир отца, увиденный сыном во сне, который подменил жизнь.
Смерть отца
(«Круг второй», Александр Сокуров, 1991)
На первый взгляд, фильм Сокурова — об ужасе смерти как таковом, об утрате близкого человека, которого Харон должен навсегда переправить из царства живых в царство мертвых. Отца в фильме почти нет — умирает кто-то нам неведомый. Известно лишь, что он был военным и, скорее всего, умер от рака: все, что осталось — портсигар военного времени и женская брошка с выпавшими камушками и кастетом. Но этого достаточно — ощущение присутствия мертвого отца есть почти в каждом кадре: умирает именно отец, умирает время, тускнеет пространство. Исчезновение Отца есть исчезновение причины Сына — исчезновение причины его бытия; образовавшаяся пустота смысла зияет и смердит. Детальный физиологизм похоронного процесса, «круг второй», по которому проходит Сын, у Сокурова превращается в метафизику вселенского кошмара. Перед нами не «поэтическое сиротство» Тарковского, а сиротство изначальное, абсолютное, на которое обречен любой человек на этой земле. Вслед за последними кадрами фильма, где «огнь пожирающий» уничтожает вещи, оставшиеся от Отца, возникают титры, не оставляющие пространства для толкования: «Счастливы близкие наши, умершие раньше нас». Советская эпоха завершается, пожалуй, самым безысходным фильмом в истории отечественного кино.

В поисках утраченного сына
(«Пропавший без вести», Коста-Гаврас, 1981)
Как это часто бывает у Коста-Гавраса, политический разлом проходит по организму семьи. Отец (Джек Леммон), достопочтенный пуританин и благонравный гражданин, приезжает в Чили, охваченное пиночетовским хаосом: здесь без вести пропал его сын, леворадикал и бунтарь, давно порвавший всякие отношения с буржуазным миром отца. Вместе с невестой сына (Джессика Ланж), сражавшейся с ним «плечом к плечу», отец обивает пороги новых, путчистских официальных инстанций, постепенно переходя от слепого верноподданнического доверия к возмущению перед творящимися беззакониями — и тем самым политически (да и эмоционально) становясь на сторону незримого сына. В финале выясняется, что сын давно погиб от рук путчистских наемников; отец лишь добивается выдачи гроба с телом.
В центральном эпизоде фильма отец через микрофон обращается к невидимому сыну, который, возможно, находится среди тысяч «обитателей» знаменитого стадиона в Сантьяго. Сын теперь словно растворен в них — в этих людях, за права и свободу которых он боролся. Нетерпимость и глухота убивает самого человека куда более явно и жестоко, чем тех, к кому он нетерпим. Режиссер заостряет до предела извечную проблему «отцов и детей» — точнее, он считает, что эта проблема заострена самой действительностью, необратимо изменившейся в бурные шестидесятые. В условиях безудержного государственного террора соединить «обрывки связующей нити» может лишь смерть детей, на которую они героически сами себя обрекли. Но это вожделенное соединение — не более чем великая, но временная иллюзия, ибо совершается оно по ту сторону жизненного процесса. Ведь гибель сына фактически обрекает стареющего отца на бесплодие — т. е. на смерть. Обретенный сын становится иконой: иконой в доме, обреченном на вымирание.
Отец-хозяин
(«Отец-хозяин», братья Тавиани, 1977)
Оригинальное, итальянское название фильма — почти каламбур: «Padre padrone». «Padre, padrone, patria, patriarco»: «отец, хозяин, отчизна, патриарх», — учит по словарю итальянский язык неграмотный двадцатилетний пастух из сардинской деревушки, которого когда-то, в далеком детстве отец забрал из школы, чтобы тот стерег стадо и помогал ему по хозяйству. Кряжистый, коренастый, по-крестьянски прижимистый и неласковый, отец (Омеро Антонутти) заботится о сыне как умеет: терпеливо объясняет ему смысл ночных звуков и избивает до обморока за малейшую оплошность. Сын отвечает ему смесью любви, страха и ненависти: наперекор отцовской воле избирает профессией лингвистику и филологию (фильм поставлен по автобиографическому роману Гавино Ледде), мочится в сторону «священных дубов Сардинии» из грузовика, в котором бежит из родного захолустья на континент, а вернувшись, вступает с отцом в страшную и безжалостную мужскую драку, когда тот, обезумев от сыновнего неповиновения, замахивается на него суковатой палкой.
«Отец-хозяин» — переломный фильм и для братьев Тавиани, и для всего итальянского кинематографа контестации. Беспримесная ярость протеста против засилья матерых седовласых мафиози всех уровней постепенно сменяется неведомой дотоле щемящей ностальгией по старой, патриархальной Италии с ее оливами, холмами и строгостью семейного уклада. Все оказывается намного сложнее, и к бунту молодых против жестокой расчетливости отцов примешивается нежность — к темному, угрюмому крестьянину, который не знает напасти страшнее заморозков, пускается на всевозможные уловки, лишь бы оставить детям цветущую оливковую плантацию, и горько страдает от того, что не может понять собственного сына. Главный кадр фильма — отец, который собирается погладить по голове внезапно прильнувшего к нему сына, но одергивает сам себя и по привычке замахивается для удара.
Патриархальный отец
(«Крестный отец», Френсис Форд Коппола, 1972)
Ирония нашего времени заключается в том, что среди знаковых фильмов последних десятилетий, пожалуй, самый масштабный образ отца-патриарха дан в гангстерской саге Копполы. Здесь все как будто точно так же, как и в классическом семейном романе: род, семья, ее дело, ее отпрыски — Древо жизни, рядом с которым все остальное неважно. «Только тот, кто думает о семье, может стать настоящим мужчиной», — повторяет «крестный отец». Обряд крещения — первое из христианских таинств: оно уничтожает все грехи и возвращает в состояние праведности и безгрешности, рождает нового человека. Поэтому дон Корлеоне (Марлон Брандо), крестный отец, «отец отцов», обладает сакральной властью и почти нечеловеческой харизмой. Разумеется, власть первичнее денег, и она дорого стоит. Но у Копполы дон Корлеоне лишен видимых пороков, они все — в прошлом, остался лишь их отпечаток на его лице. Сегодня для него важны не деньги, а благополучие ближних и «уважение окружающих». Как Иегова, он грозен, строг, но справедлив. Его более или менее добродетельные сыновья защищают отечество и беспредельно преданы своему отцу (доктор Фрейд, посмотрев этот фильм, должен был бы скорректировать свою концепцию). Дон Корлеоне вершит правосудие, которое не в состоянии обеспечить продажная американская юстиция; он выступает против грязного бизнеса — торговли наркотиками; он почитает Мать-Церковь; наконец, он — наставник и учитель, как и подобает крестному. Марио Пьюзо и Копполу неоднократно упрекали в идеализации мафии, но если они и делали это, то, возможно, вполне намеренно: гангстерский эпос стал ироническим парафразом традиционных семейных саг и саркастическим комментарием к эволюции человеческого рода в ХХ столетии.

Злой Демиург
(«Чудовищная декада», Клод Шаброль, 1971)
В гностических учениях Демиург — символ ложного Творца, создавшего неподлинный мир, метафизическую тюрьму. Цель человеческой жизни — освобождение из-под его власти. Образы всесильных, брутальных отцов, желающих разделять и властвовать в принадлежащем им пространстве, в послевоенном кино кочуют из одного фильма в другой. В «Чудовищной декаде» Клода Шаброля эта схема доведена до своего предела. Отец семейства Тео (бог), которого играет «бог кино» Орсон Уэллс, невероятно богат и могуществен и пытается творить свой мир по своим законам, не подчиненным «общепринятой» морали. Он берет себе приемного сына Шарля (Энтони Перкинс) и молодую жену (Марлен Жобер): первый становится скульптором и прославляет отца мраморными статуями Юпитера с ликом Тео; вторая же обязана беспрекословно подчиняться мужу. Однако бог-отец, играющий судьбами людей, не властен в собственном мире. Приемный сын и его мачеха вступают в преступную связь, которую им недолго удается скрывать. Разгневанный Громовержец запутывает своего преступного сына в сетях хитроумной моралистической интриги: тот «по пунктам» нарушает все десять заповедей подряд (в том числе оскверняет могилу своих настоящих родителей), словно принимая на себя грехи боготворимого приемного отца и тем самым подсознательно пытаясь искупить свой собственный грех перед ним — первородный, эдемский. Но искупление невозможно: во вселенной злого и всевластного Демиурга каждый грех — смертный. Шарль погибает, погибает и его мачеха; а «духовный отец» Шарля, его университетский профессор, разгадывает интригу Тео и тем самым вынуждает его к самоубийству. «Для таких богов, как вы, нет места среди людей», — говорит он ему напоследок.
Отец-художник
(«Провидение», Ален Рене, 1977)
Престарелый английский писатель (Джон Гилгуд) в своем поместье сочиняет книгу. Пьяный, больной, полубезумный старик, у которого 20 лет назад покончила с собой жена, выступает в роли провидения-демиурга, превращающего жизнь своих близких и весь мир в настоящий ад. Люди мучают, истязают, убивают друг друга. Блестящий преуспевающий юрист (Дирк Богард) стремится осудить и уничтожить беспутного и безвольного «пролетария» (Дэвид Уорнер) — за то, что тот в темном лесу убил страшного древнего старика, который постепенно мутировал не то в зверя, не то в Пана и молил о смерти. Ненависть и похоть, равнодушие и высокомерие, скотское тупоумие и выхолощенность пикировок — все здесь сплетено воедино и вопиет о смертельной болезни творца всего этого сущего. Клубок из психологических, социальных и философских проблем и метафор не под силу распутать даже самому автору-Провидению, который, сквернословя и задыхаясь от собственного зловония, тоскует по навеки утраченной ясности сознания. Воображение — страшная и разрушительная сила; она способна вытаскивать из подсознания самое отвратительное, гибельное, ужасное и превращать вполне добродетельных людей в монстров. Но в финальном эпизоде фильма воображение уступает место реальности, которая намного проще и милосерднее. «Юрист» и «пролетарий» оказываются братьями — старшим и младшим: детьми одного Отца.
Все семейство приезжает в поместье и собирается на лужайке перед старинным домом, чтобы отметить день рождения отца. Фантасмагория внезапно оборачивается идиллией повседневности. Недаром фильм снят именно в Англии. Здесь мы почитаем священное понятие «privacy»; здесь с детства внушают, что дистанция — это не равнодушие к ближнему, а уважение его свободы. Мы знаем, что человек — опасное существо, он таит в себе бездны, и мы не пытаемся проникнуть в подсознание Другого. Нам известно: то, что плодотворно для искусства, опасно для жизни. Мы держимся за поверхность, не забывая о том, что таится в глубине. И тогда можно сидеть за роскошным праздничным столом, восхищаться своим знаменитым, благородным, талантливым и далеким от совершенства отцом, любить своего брата и свою жену и видеть ослепительную красоту этого мира.

Безумный отец и сын-ясновидец
(«Сияние», Стэнли Кубрик, 1980)
В «Сиянии» Стэнли Кубрика тема «отца и сына» — как и любая другая тема в любом фильме Кубрика — доведена до того предела метафизики, за которым начинается иррациональное, мистическое. Отец семейства, писатель Джек (Джек Николсон), устраивается на сезонную работу — зимним сторожем в уединенный, затерянный в горах отель «Оверлук» и поселяется там со своими женой и сыном. Многомесячная изоляция от внешнего мира постепенно сводит его с ума — или отель и вправду переполнен призраками своих былых постояльцев и следами давнишних злодеяний? А Дэнни, маленький сын Джека, наделен способностью «сиять» — видеть эти следы, что незримой липкой паутиной облепили холодный декор гостиничных интерьеров. Например, видеть девочек-близняшек, которых некогда зарубил топором их родной отец (после чего сам застрелился) — благообразный старичок, который ныне уверяет Джека, что тот «всегда был здесь зимним сторожем». Двадцать лет назад, сорок, шестьдесят — всегда.
Джек, у которого постепенно прорезается волчий оскал, все больше погружается в пучины безумия. Пока, наконец, не берется за топор, чтобы слегка «исправить» (correct) любимых жену и сына — ибо те мешают ему выполнять его работу (читай — миссию): сторожа, писателя, Главы семейства. Все, что может противопоставить сын загадочному отцовскому безумию, дабы спасти себя и мать, — это свой столь же загадочный, неподконтрольный ему самому визионерский дар. В герметическом, энигматическом лабиринте отеля «Оверлук» из года в год, веками борются друг с другом две тайны: Отец все так же берется за топор, чтобы наказать строптивых, а Сын все так же бежит от него, обуянный ужасом при виде зла, которым сочится все окружающее пространство, которому столь легко внемлет его отец — и которое может разглядеть лишь ясно-видение Ребенка.
Буржуазный папа и дети-мутанты
(«Торжество», Томас Винтерберг, 1998)
Истязания буржуазии в искусстве начались почти одновременно с ее воцарением на исторической арене, и в ХХ веке кинематограф внес сюда свой достойный вклад. Но неистовство «Догмы» оставляет далеко позади антибуржуазный кинематограф 1950–1980-х гг., некогда столь почитаемый советской критикой. В «Торжестве» на шестидесятилетнем юбилее респектабельного и не лишенного обаяния отца богатого семейства (как и полагается, масона), человека, «приятного во всех отношениях», выясняется, что буржуазный папа когда-то насиловал своих малолетних детей — двойняшек Линду и Кристиана. В результате Линда в юности покончила с собой, а старший, самый талантливый сын навсегда уехал в Париж. У такого отца дети — мутанты, с изломанной психикой, а никак не «бунтари»: бунт в «постмодернистскую» эпоху невозможен. Все, на что они способны — отомстить, учинить скандал в благородном семействе; дети не более привлекательны, чем их отец. Утонченный Кристиан балансирует на грани безумия, а грубоватый Михаэль, психопат и неврастеник (которого, к счастью, миновала отцовская «любовь»), сначала не верит своему брату, но после прочтения предсмертного письма Линды избивает отца. Тотальное отчуждение, распад семейных связей на фоне отчаянных попыток сохранить внешнюю благопристойность, утрата человеческого облика, ненависть детей к отцу, педофилия и т. д. и т. п. — весь букет пороков, казалось бы, виденный десятки раз, у Винтерберга представлен остро и неожиданно. В следующей картине «Догмы» дети-мутанты сознательно разыгрывают «идиотов», пародия на бунт возможна лишь в форме симуляции безумия. «Папа, ты должен уйти», — так звучит последняя реплика в «Торжестве», и отец, который, несмотря ни на что, только что признался в любви к «оскорбившим» его детям (как будто он «ничего не помнит»), покорно покидает поле боя.
Мачо и сын-паук
(«Паук», Дэвид Кроненберг, 2002)
С одной стороны, перед нами «привычный» Кроненберг: со своими фирменными энтомологическими метафорами и сквозной темой — психофизиологической мутацией homo sapiens. С другой же — фильм предельно аскетичен и лишен каких-либо спецэффектов: камерная драма с замедленным нагнетанием напряжения и минимумом персонажей. Трущобы лондонского Ист-Энда; брутальный отец (Габриэл Бирн), всячески демонстрирующий свой «мачизм» и открыто посещающий проститутку; покорная жена (ту и другую играет Миранда Ричардсон); забитый сын, любящий мать и постепенно все больше ненавидящий отца. В припадке ярости отец убивает жену, приводит вместо нее проститутку, которую, в свою очередь, мальчик уничтожает с помощью сплетенной им «паутины». История рассказана через воспоминания уже взрослого «человека-паука» (Ральф Файнс), существующего в доме для душевнобольных, что придает происходящему психоделический оттенок, привкус двоящейся реальности, где истина и ложь неразличимы. В фильме XXI века, в конечном счете, нет уже ни отцов, ни детей, ни нормальных человеческих отношений. Это история не столько о безотцовщине и сиротстве, сколько о метафизическом ужасе человеческого существования, ведущем к распаду личности, безумию и биологической мутации.

Эвтаназия — последнее милосердие сына
(«Нашествие варваров», Дени Аркан, 2003)
В «Закате американской империи» (1986) былые гуляки и стиляги безумных и беспечных шестидесятых собирались за городом, чтобы вновь ощутить в себе неугасающий дух молодеческой вольницы. Двадцать лет спустя они все еще хранили идеалы, столь не подходящие ни к их новому, респектабельному социальному статусу, ни к неумолимо пробивающейся седине. В продолжении «Заката», «Нашествии варваров», империя закатилась окончательно. Последнее поколение аристократов духа уходит, оппозиция «солидные отцы — бунтующие дети» перевернута. Теперь дети носят белые воротнички и черные кейсы и, не отрываясь от лэп-топов, делают лучшую по нынешним временам карьеру — банковских менеджеров; а их престарелые отцы, интеллигенты и интеллектуалы, продолжают ерничать и превыше всего ставят внутреннюю, духовную свободу.
Новые варвары, которые блестяще разбираются в фондовых ставках и процентах на акции, но не читают ничего, кроме газет, не чувствуют никакого озлобления по отношению к своим «предкам»-недотепам. Да и вообще мало что чувствуют к ним: давно уже живут в других городах и мечутся с мобильными телефонами в руках по всем мегаполисам глобализованного мира. Отчуждение слишком велико, пропасть слишком глубока, и лишь на самом ее дне спрятан тихий груз давней взаимной обиды. Когда один из главных героев смертельно заболевает, его преуспевающий сын делает «все от него зависящее»: переводит в отдельную палату, оплачивает дорогостоящую операцию. Но смерть отца неминуема. Седые друзья, собравшиеся у одра умирающего, последний раз обмениваются малопристойными хипповскими шуточками. Сын примирился с отцом: он по-прежнему не способен его понять, но обида растаяла. Он выполняет последний сыновний долг: по просьбе отца делает ему смертельный укол. В последних отблесках заката, на фоне пасторального пейзажа новый, двадцать первый век дарует милосердную смерть своему отцу — веку двадцатому.