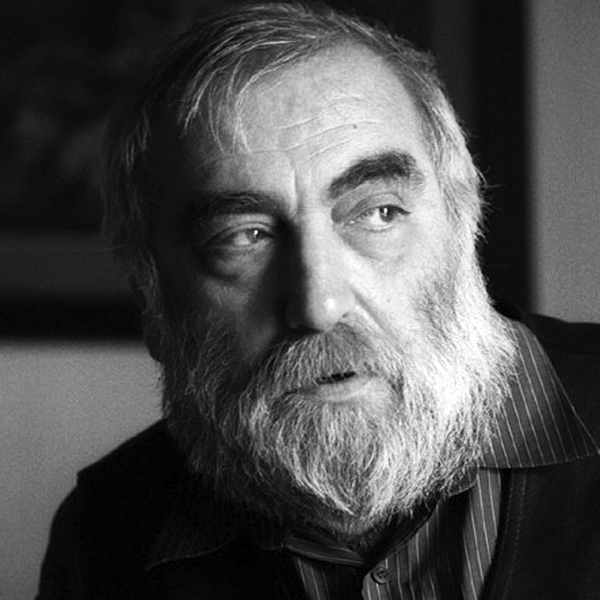Киллер хочет в кино
В доме Облонских поехала крыша. Это вам не прачечная, а Министерство культуры. Один из последних психических сдвигов — исподвольная идеализация образа душегуба в наинепригляднейшей ипостаси наемного убийцы. Идеализация образа, от которой недалеко и до идеализации самого ремесла. Похоже, вконец запутавшись с ложной дилеммой «ворюг и кровопийц» и окончательно разуверившись в собственной способности мало-мальски привлекательно (или хотя бы убедительно) изобразить первых, отечественные литература и кинематограф начинают симпатизировать кровопийцам.
Конечно, приходится попирать мораль едва ли не во всех ее разновидностях: христианскую, общечеловеческую, советскую, классовую, и так далее. В ход зато идут мораль релятивистская, мораль парадоксальная и аморализм, отдающий на слух недавней — и привычной — амбивалентностью. При этом, понятно, произвольно тасуется колода метафорических и реальных значений, прямых и переносных смыслов — тасуется по понятиям наших дней и просто «по понятиям». И, разумеется, когда бездумно, когда осмысленно копируются и переводятся на язык родных осин западные — в первую очередь, американские — образцы. Значит, имеет смысл присмотреться к тому, как это делается в Америке.
В американском этническом и конфессиональном котле мораль — на уровне литературы и кино — торжествует усредненно англиканская с некоторой поправкой на католическую. В католическом варианте, родственном в этом отношении православному, убийцу может спасти комплекс покаяние-искупление. Кроме того, убийца здесь — например, в рассказах Фланнери О’Коннор — порой выступает в роли демона-искусителя, призванного разоблачить нравственное ничтожество жертвы. Так — в литературе; а кинематограф развивается всецело под знаком англиканской морали. Англиканская же мораль — и, не в последнюю очередь, британское правосудие — зиждятся на представлении об абсолютной неискупимости душегубства. Вплоть до шестидесятых годов нашего века в Англии изобличенных убийц вешали независимо от наличия каких бы то ни было смягчающих вину обстоятельств. Кроме, понятно, тех случаев, когда убийство совершалось на законных основаниях. Гвардеец из «Баллады Редингской тюрьмы» убил возлюбленную в состоянии аффекта, но он убил ее — и, следовательно, его ждала виселица.
В Америке — а потом уж и в американском искусстве — с этой проблемой ухитрились сладить, расширив и размыв границы зоны «законного убийства». Самосуд (суд Линча) это не убийство, а казнь; ковбойский поединок — это не убийство, а «демократическая дуэль», и так далее. И все-таки: «хороший парень» мочит «плохого парня» только в порядке самозащиты или защиты третьих лиц. А если игнорирует подобные ограничения, то и сам ни в коем случае не доживает до финала. Лишь собственная гибель позволяет ему остаться в глазах читателя или зрителя «хорошим парнем», невзирая на допущенные ошибки. Правда, и «плохого парня» никак нельзя оставить в живых — отсюда и стандартная, сотни раз повторенная ситуация: уже пойманный и чаще всего обезоруженный преступник в последний момент делает некое угрожающее движение, позволяющее «хорошему парню» убить его за милую душу и с чистой совестью. Причем, чистая совесть здесь даже не так важна, как последующая безнаказанность, вытекающая из отсутствия моральных претензий к победоносному герою.
Столь же примитивно-проста и моральная нагрузка американской литературы — недаром писателям США так удаются нобелевские речи. «Человечество выстоит» — и точка. «Старик только наказывает, а шуток он не шутит» (речь идет о Боге). А ведь это Фолкнер — сложнейший из американских писателей, знающий все мыслимое и немыслимое и про шум, и про ярость, и про свет в августе. И, кстати, именно из-за моральной перегруженности своей прозы практически не поддающийся экранизации.
Переход (или соскальзывание) от традиционной морали к релятивистской и парадоксальной осуществляется в американских литературе и кинематографе не столько по идейным, сколько по сугубо технологическим соображениям. Изначально простая схема варьируется, затем усложняется, затем снова варьируется, а в результате в какой-то момент возникает несколько иное (но не принципиально иное) качество. Если «плохой парень» в конце концов все равно погибнет, то ничто не мешает сделать его изначально обаятельным — нравственное чувство читателя или зрителя оскорблено не будет. А раз смерть все спишет, то можно и перековать «плохого парня» в «хорошего». Или «хорошего» заставить «испортиться» в результате рокового стечения обстоятельств. И тогда залюбоваться «Бонни и Клайдом» — они погибнут. И посочувствовать герою Джона Вудса из фильма «Однажды в Америке» — он наложит на себя руки. И даже испытать симпатию к крестному отцу-III: он останется у разбитого корыта, что равнозначно смерти.
В последнем примере наличествует метафорический перескок, в разговоре на данную тему неизбежный. И не только потому, что метафорическая смерть выступает в литературе и кино аналогом смерти подлинной. Ожившие, реализованные в искусстве, метафоры — смерть лишь одна из них — видоизменяют и мораль. Ограбление банка и учреждение банка (Брехт). Мафия как контора (Пьюзо — Коппола). Контора обыкновенная — и Контора. Убийство реальное и виртуальное. «Ты меня убиваешь», — обращаемся мы к близкому человеку, подразумевая все же нечто иное; искусство эту разницу игнорирует или элиминирует. Здесь, правда, важна специфика того или иного искусства. «Десять негритят» у Агаты Кристи — абстрактная головоломка с известной долей нравственного (в духе англиканской морали) назидания; они же у Станислава Говорухина — морально ущербный, чтобы не сказать садистический фильм: в киноверсии у нас на глазах один за другим гибнут материализовавшиеся персонажи — и не разгадка тайны (и уж подавно не идея воздаяния) волнует нас, а только обстоятельства и очередность смертей с предшествующей агонией.
Варьируясь, англиканская моральная схема порой доходит и до своего отрицания — но в таких произведениях (которым, бывает, именно в силу этой экстраординарности сопутствует шумный успех) ощущение некоторой «неправильности», известной неправомерности происходящего возникает непременно. Английская детективщица Патриция Хайсмит, как правило, заканчивает романы победой зла и торжеством конкретного злодея — в бесчисленных экранизациях такие концовки просто-напросто убирают. Как «неправильный» воспринимает зритель (переживая его из-за этого тем острее) финал таких фильмов, как «Молчание ягнят» или «Основной инстинкт». Еще показательней «Щепка»: здесь, в любовном треугольнике Шарон Стоун с «плохим» и «хорошим» парнем, финал — по требованию продюсера — был изменен с тем, чтобы убийцей оказался и без того «плохой» парень, а вовсе не его обаятельный соперник.
Так или иначе, в мэйнстриме добро неизменно торжествует, а зло — с еще большей обязательностью — бывает наказано. Но чисто технологическое — напомню — стремление к обновлению и усложнению схемы, к ее парадоксализации, постепенно выводит на первый план «хороших парней» из числа самых «плохих» (скажем, на смену грубому шерифу приходит подловатый агент, потом — вынужденно готовый на многое тайный агент, а потом — и вовсе пропащий осведомитель) — и здесь, на каком-то этапе, со всей неизбежностью появляется благородный или как минимум обаятельный киллер. По тем или иным причинам переметнувшийся в стан добра только затем, чтобы с еще большим блеском продемонстрировать профессиональные навыки — и, разумеется (за редчайшими исключениями, воспринимаемыми как «неправильные»), погибнуть в итоге.
Киллер может влюбиться в жертву — и уже на пару с ней вступить в бой с превосходящими силами противника. Тою же любовью мотивируется в таком случае и трагическая концовка: проявив человеческую слабость, живой автомат начинает давать сбои. Если же герой из бывших киллеров остается в живых — значит, раньше он убивал по принуждению: был зомбирован («Теория заговора»), получил «предложение, от которого невозможно отказаться» («Никита»), и так далее. Та же Никита, впрочем, искупает невынужденное убийство полицейского в начале фильма собственной метафорической смертью в финале… Киллер может воспитать и полюбить ученика — и погибнуть, спасая уже его или исправляя допущенную им промашку. Он может не захотеть убивать ребенка или, как в английской «Братве», обзавестись собственным. Наконец, в своем переходе на «светлую сторону» он может поначалу руководствоваться и низменными мотивами — схемы это не нарушает и его трагической гибели не отменяет.
Характерен вполне рядовой фильм Джона Флинна «Бестселлер». Изгнанный из преступного синдиката киллер, решив отмстить обидчикам, вступает в союз с полицейским (он же — автор разоблачительных книг) и, оставаясь извергом и мерзавцем, начинает творить чудеса отваги. Убивая «шестерок» своего былого босса, он презрительно хмыкает: на кого, мол, меня променяли. Киллер и полицейский (правда, последнему это явно невмоготу) проникаются друг к другу симпатией, если не любовью; в итоге киллер гибнет, спасая единственную дочь полицейского. «Хороший был парень, но здорово, что он больше не ходит по земле», — утерев слезу, думает зритель.
Таким образом, киллер в американском кино — и в американизированном, если вспомнить Люка Бессона — технологическая функция, острое блюдо или, вернее, пряный соус, сильное средство и яркая метафора — но не более того. Или, конечно, объект гиньольного травестирования, как у Квентина Тарантино с последователями и эпигонами. У нас же киллер, судя по всему, имеет шансы превратиться в «героя безгеройного времени» (пользуясь давним выражением Майи Туровской), а может быть, и в главного героя. Доморощенный киллер (в отличие от обаятельного влюбчивого дебила у Бессона) именно что профессионал, а профессионалов мы уважаем. Он ставит «точку пули» — единственный внятный знак в тайнописи наших дней. Он никого и ничего не боится. Перед ним беззащитны — а значит, и равны — все. Если ему случается влюбиться — то материализуется в гиперболе заветная мечта кинематографа: роман вора с проституткой. Наконец, он постмодернистичен — открыт и кассовому успеху (подлинному или мнимому), и интеллектуальному анализу. Моральный аспект при этом не то чтобы выносится за скобки — отсутствует вовсе.
Что здесь от режиссерского расчета или лукавства, а что от пещерного восприятия — сказать трудно. Ведь та же английская «Братва» — средней руки коммерческая подделка под Тарантино — стала для мальчиков, которым хочется в Тамбов, культовым фильмом «про жизнь». А откровенно и однозначно пародийная «Шизофрения» со всеми своими совковыми примочками полемизирует с «Никитой» и солидаризируется с «Архипелагом ГУЛАГом». А герой Абдулова гибнет только потому, что сценаристы не придумали, куда его живого девать. Прогнозирование успеха (или провала) — штука сложная, но еще сложней — применительно к сегодняшней ситуации в доме Облонских — прогнозировать причину успеха или провала.
Правда, вышесказанное никак не относится — вопреки расхожему мнению ~ к нашумевшей картине «Брат». Этот фильм скроен по меркам американской киноморали на ее начальной (наивной) стадии. С некоторой поправкой на отечественную традицию. Потому что персонаж Бодрова-младшего вовсе не бесстрастный (и, соответственно, аморальный) профессионал, а вполне традиционный — и высоконравственный — герой-заступник. Просто эта мотивация подается на подсознательном уровне, хотя многими воспринимается и на сознательном, то есть буквально. Герой Бодрова-младшего не убивает, а заступается (так баба в фольклорной традиции не «дает», а «жалеет») — за немца; за старшего брата, которому грозит беда; за контролера в трамвае; за случайного свидетеля, которого наверняка прикончили бы подлинные убийцы; наконец, за честь подруги. Перед последней операцией он изготовляет обрез, что и вовсе отсылает к идее борьбы за «попранную коммунистами» кулацкую справедливость. Он получает пулю в живот, что не вяжется с образом профессионала. Его избивают на съемках видеоклипа. Он говорит, что отсиделся в штабе — и, скорее всего, так оно и было. Он едет в Москву стать шофером — и шофер этот может превратиться в «Таксиста», но никак не в киллера. То есть, фильм «Брат» — правда, по самым примитивным американским стандартам — моралистичен и даже политкорректен.
Первый — и лучший — отечественный фильм о киллерах — «За день до»… Но и здесь киллерство как метод заработка богемной компании в Москве, разоренной вялотекущими реформами (с установкой на вне- моральность, на мораль лишь для внутреннего пользования, и с естественной гибелью всех героев в финале) — это, главным образом, структурообразующая метафора. Как в мотиве самоубийства в «Макарове» можно, по Фрейду, разглядеть не слишком глубоко упрятанный мотив убийства. Подлинных же профессионалов убойного дела мы в отечественном кинематографе (как, впрочем, и в литературе) еще не видели. Оно и не мудрено: душегуб, да к тому же наемный душегуб — фигура отталкивающая: Федька-каторжный у Достоевского, и только. А бывшие или не совсем бывшие агенты спецслужб? А война «солнцевских» с «кремлевскими»? Можно, но только если очень захочется. И, судя по всему, уже захотелось. На волне подлинного успеха ложно понятого «Брата», под тюремный рок и прочую «блатную музыку» — захотелось тем более. Если Бога нет, значит, все дозволено — а кому знать об этом лучше, чем киллеру? Разве что режиссеру очередного фильма про киллеров.
Слово «очередной» употреблено в предыдущем предложении на перспективу, на вырост. Фильмы о наемных убийцах еще не заполонили экран (домашний), но скоро заполонят. Киллер хочет в кино.