Как сделана «Шинель»
Беседа с Юрием Норштейном

— Повод нашей встречи — литературный, а именно — грядущее двухсотлетие Николая Васильевича Гоголя, в соавторстве с которым вы работаете уже не первый год. И сразу такой детский вопрос: почему «Шинель»? Почему Гоголь? Не Пушкин, не Чехов, не Толстой, не Достоевский?
— Ну, вы сразу начали называть великие имена… Я, не поверите, никогда не задавался вопросом: почему «Шинель»? «Шинель» и «Шинель», очередной фильм. Тут важно, чтобы фильм сам в тебе проявился. Не был навязан
— Как происходит у Вас процесс воссоздания себя из чужого текста?
— Для меня гоголевский текст — либретто. А точнее, как я уже сказал, — притча. И это дает мне свободу сочинения внутри текста психологических ситуаций, которые могут косвенно отражать то, о чем думал Гоголь, и, в конце концов, то, о чем думаю я. В данном случае я становлюсь полноправным соавтором, а не человеком, который, как охотничья собака, напал на след текста.
Если видишь в тексте Гоголя притчу, заведомо освобождаешься от ненужных литературных под- робностей. Подробности эти — безусловно, изумительные. Но они становятся балластом и не дают двигаться, когда ты начнешь с текстом работать. Поскольку качество текста очень высокое, они не дадут тебе возможности быть свободным. А когда ты работаешь, то должен быть свободен от текста. Вы знаете, самое ужасное — это сочинить идею и потом двигаться в ее направлении. Это всегда заканчивается плохо — жестким художественным произведением, а искусство (если перевести на язык математики) есть система сложения вещей вероятностных. И эта вероятностность должна быть до конца сохранена. Ты не можешь дать себе окончательный ответ. Если меня спросят: «Что ты хочешь сказать?» — я, конечно, отвечу, и я себе на этот вопрос отвечаю ежедневно. Но эти ответы каждый день меняются. Не меняется лишь покойник. Все должно находиться в постоянном движении, минуя ту мертвую точку, которая называется идеей. И вот еще важный момент: в литературном произведении, если ты задействуешь его в кино, должна быть внутренняя музыкальность, которая не дает возможности обольститься правдоподобием. Когда начинается правдоподобие, ты приходишь к очень жесткой форме — работать в таком режиме, конечно, удобней, чем в ситуации волнения, растерянности и сомнения. Но вероятность того, что ты откроешь для себя что-то новое, гораздо выше.
— Как в таком случае соотносится сценарий фильма с первоисточником и самим фильмом?
— Изначально мы писали вместе с Петрушевской. Но сценарий к «Шинели» и

— В чем же тогда смысл сценария?
— Он должен быть первотолчком, дальше я должен придумывать сам. На съемках «Шинели» так и произошло. Мы начали снимать, и вдруг появился эпизод, огромный по размеру (15 минут) — «Акакий Акакиевич дома», с подробностями почти молекулярными. Его не было в сценарии, он возник сам по себе. И когда я стал этот эпизод рассматривать, то понял, что, собственно говоря, это единственный эпизод, где Акакий Акакиевич сам по себе, где он живет в своем собственном космосе. Его микромир должен быть бесконечным, и я, как Марсель Пруст, мог бы это время множить и дробить, множить и дробить, дробить и множить. Работая над этим эпизодом, я
— Почему в анимации так редко предпринимаются попытки экранизировать серьезные литературные произведения? Казалось бы, форма благоволит…
— Думаю, это связано с психологией отношения к мультипликации, которая часто понимается как искусство исключительно для детей. Почему бытует такое мнение, понятно — ребенок через линии лучше воспринимает мир. Кроме того, мультипликация метафорична. Впоследствии, освоив себя как искусство, обретя технологический комфорт, мультипликация начала разрабатывать другие темы. Отдельные режиссеры стали пытаться говорить о вещах более сложных и на языке более сложном, чем тот язык, на котором мультипликация разговаривала с детьми. Это вполне естественно. Но сегодня мультипликация, став совершенным технологическим процессом, кажется Титаником, который

— Кто для вас Гоголь в отрыве от текста «Шинели»? Уверена, что все биографическую классику вы читали — и Вересаева, и Набокова, и Розанова…
— Я никогда не читал столько о Гоголе, сколько во время работы над «Шинелью». Естественно, мне попалась книга Вересаева (довольно плохо изданная). Но меня не очень интересовали подробности его жизни. Мне достаточно было нескольких деталей, к которым я потом часто возвращался. Несколько деталей его учебы в гимназии, описанных Вересаевым: какой он был звереныш, как он забивался в угол, как старался привлечь к себе внимание, как у него, по воспоминаниям соучеников, постоянно текло из уха, текло из носа, очевидно, от него дурно пахло… Но при этом уже тогда у него было одно гениальное преимущество — он сочинял так, как никто из его одноклассников. Никого равного ему именно в «момент литературы» не было. Так он себя спасал, возвышал. И это желание возвыситься проходит через всю его жизнь — чего стоит одна история знакомства с Пушкиным! Гоголь, молодой человек из провинции, дает своим родителям для писем адрес Пушкина (якобы он у Пушкиных живет), чтобы показать, какое место он занимает в Петербурге. Это уже хлестаковщина
Впрочем, меня мало привлекают оценочные тексты о Гоголе. Не потому, что они плохи, а потому, что заслоняют от меня моего собственного Гоголя, представление о котором сложилось под впечатлением от его дивных текстов и изобразительных портретов (в первую очередь, конечно, это портрет Александра Иванова). От чтения таких текстов я глупею с каждой страницей. Потому что никакой анализ никогда не может быть сопряжен с творчеством. Никогда.
— Есть такая книга «Литературоведение как литература». Собственно, название ее о том, что интерпретация текста возможна лишь в том случае, если ты становишься с текстом на один уровень, отвечаешь на чужой творческий акт — собственным творческим актом…
— Да, именно так. Перед тем, как начать работать над «Шинелью», я прочел всего Гоголя от края до края. И вот что я увидел: я увидел музыкальные рифмы, я увидел строение фраз, музыкальные отзвуки в них. Каждое предложение — как режиссерский эпизод. От «Сорочинской ярмарки» — через «Петербургские повести» и дальше к «Мертвым душам» и «Шинели» — я увидел эхо музыкальных параллелей, повторов, вариаций. В сущности, Гоголь для меня — это единое огромное музыкальное произведение, где музыкальные темы варьируются в той или иной степени и соединяются
— Помню, вы говорили, что это чуть ли не самое любимое ваше произведение у Гоголя…
— Да, это одно из счастливых его произведений. Сколько бы я ни читал (а я уже почти наизусть знаю гоголевские тексты), испытываю неизменное наслаждение, предвкушая, что сейчас появится вот это предложение, а потом вот это. Как в детстве — тебе читают знакомую сказку, а ты уточняешь текст, если
раз слушать один и тот же рассказ, зная его наизусть. Мое «счастливое» чтение «Коляски» открывало для «Шинели» пространство и дало ей даже больше, чем работа с текстом «Шинели». Но вообще к пониманию Гоголя я прихожу не через внимательное прочтение, а через обстоятельства съемки. Когда меня неизменно спрашивают, почему я так долго снимаю «Шинель», я могу сказать лишь одно в свое «оправдание»: снимая этот фильм, я столкнулся с тем, что многие российские чиновники, того или иного ранга, ведут себя как истинные гоголевские персонажи, в полном согласии с текстом. Так что тут я попал просто в замкнутый круг.
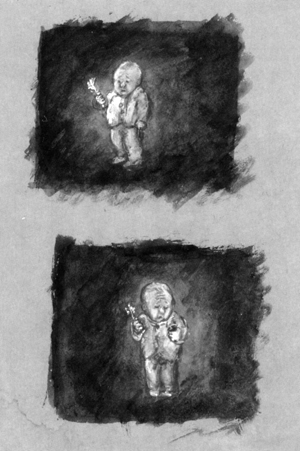
— Внутрь сюжета, иными словами.
— Вся моя работа над «Шинелью» — это сплошная гоголевская история. Ни один фильм не делался так трудно. Начались неприятности еще в
В Гоголе заложено это невыносимое ощущение внутренней гармонии, которое невозможно соотнести с тем, что происходит вокруг. Заложена неспособность обрести именно внешнюю гармонию. Это чувство раздирает любого человека. По высокому счету — мы все стремимся к гармонии, но не получается. Поиски гармонии не только в себе самом, но и в окружающем мире естественны. Поэтому Достоевский и любил пейзажи Клода Лоррена, где все настолько в ладу одно с другим, что начинает звучать

Читайте также
-
Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
Перемещенные города, перевернутые смыслы
-
Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля
-
Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана
-
Szerencsejáték Támogatás







