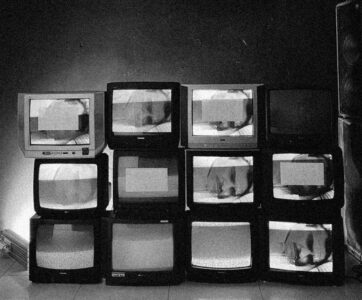Художник перед лицом трагедии. Хрестоматия
Вот подлинное лицо людей, идущих в бой. Они чем-то не похожи на всех остальных людей.
Люди не могут играть перед аппаратом, когда смерть тут же, рядом.
Эрнест Хемингуэй
Дикторский текст к фильму Йориса Ивенса «Испанская земля»
Старик сидит да пишет — и дремотой,
Знать, во всю ночь он не смыкал очей.
Как я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет; и часто
Я угадать хотел, о чем он пишет?
О темном ли владычестве татар?
О казнях ли свирепых Иоанна?
О бурном ли новогородском вече?
О славе ли отечества? напрасно.
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Все тот же вид смиренный, величавый.
Александр Пушкин
Борис Годунов
Этика кино документального в принципе иная, чем у кино игрового. Скажем, снимая «Первого учителя», я не боялся жестокости рассказа, но и не мог переступить рамки, допустимые в игровом кино. Скажем, я не мог позволить себе убить в кадре лошадь, для меня это было неэтично, недостойно искусства. Той же силы эффекта в игровом кино надо добиваться иными средствами, обманом, иллюзией. В кино документальном это оправдано, зритель знает: так было, такова реальность, мы не можем с ней ничего поделать. Это не вызывает у него того неприятия, отторжения, какое аналогичные кадры вызвали бы в игровом фильме.
Андрей Кончаловский
Низкие истины
«Кино показывает смерть за работой» — это высказывание Кокто уже приелось, и тем не менее оно справедливо. В фильме «Париж 1900 г.» Николь Ведрес есть один план, который каждый раз меня потрясает: там снят человек, изобретший летательный аппарат. Он готовится к прыжку со второго этажа Эйфелевой башни. Внизу ждут представители кинохроники. Он мешкает какое-то время, а затем бросается в пустоту и разбивается насмерть. Совершенно ясно, что, не будь здесь камеры, он не прыгнул бы, отложил испытание. Это одна из первых жертв кино. Можно сказать, что кино убивает.
Франсуа Трюффо
Трюффо о Трюффо
Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, — поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Александр Блок
Возмездие
Стихийные бедствия, ужасы войны, акты насилия и террора, сексуальные сцены и смерть способны потрясти наше сознание. Во всяком случае, такие сцены нас волнуют и возмущают, не позволяя нам оставаться на позиции стороннего наблюдателя. Поэтому ни от кого из очевидцев подобных событий, не говоря уже об активных участниках, нельзя ожидать точного рассказа о виденном. А поскольку грубые проявления человеческой природы или стихии являются элементом физической реальности, они тем более кинематографичны. Только кинокамера способна изобразить их без прикрас. […]
За неизменный интерес ко всему устрашающему и заурядному кинематограф часто обвиняют в склонности к дешевой сенсации. Это обвинение подтверждает и тот бесспорный факт, что фильмы обыкновенно уделяют сенсационным моментам значительно больше времени, чем требуют любые соображения назидательного характера; нередко кажется, что соображения эти всего лишь повод показа убийства или чего-нибудь аналогичного.
В оправдание этой черты кинематографа кто-то может утверждать, что кино не было бы так любимо широкими массами, если бы не поставляло им ошеломляющих сенсаций, и что тем самым кино лишь следует почтенной традиции. С незапамятных времен народ требовал зрелищ, позволяющих ему сопереживать с его участниками ярость огня, чрезмерную жестокость, невероятные страдания и отвратительную похоть, — зрелищ, настолько бьющих по нервам, что зритель уже не просто бы восхищался или содрогался от ужаса, но и становился как бы участником всего происходящего на экране.
Но в этом аргументе упущено главное. Ведь кино не только возрождает или продолжает традиции античных гладиатор-ских боев или театра «Grand guignol», но добавляет и нечто новое, весьма важное: пластическое выражение того, что обычно тонет в душевных волнениях. […]
Стало быть, кино стремится превратить взбудораженного свидетеля в сознательного наблюдателя. Поэтому свойственная фильмам несдержанность в показе зрелищ, потрясающих сознание, вполне закономерна: фильмы не дают нам равнодушно закрывать глаза на «слепой ход вещей».
Зигфрид Кракауэр
Природа фильма: Реабилитация физической реальности
В документальных фильмах о войне нас интересует только то, что можно показать исключительно лишь средствами кино. Не тысячи пушек, горящие города, летящие эскадрильи самолетов, не взрывы интересны для нас, а человеческая физиономия, выражение которой лучше всего может быть зафиксировано именно кинокамерой.
Буржуазные военные фильмы о войне очень мало используют эту возможность. Они, в общем, столь же жестоко примитивны, как и сама война. Поэтому здесь упомянем только об одном буржуазном фильме о войне, который по своей художественной и моральной силе может претендовать на место в пантеоне величайших документов гуманизма.
Его сняли после первой мировой войны, он назывался «За мир в мире». Финансировало фильм объединение беднейших инвалидов войны во Франции, известное под названием «Разрушенные лица». Режиссер, полковник Пикар, создал фильм по киноматериалам военного архива. Сам он был президентом общества «безликих», которые, словно прокаженные, жили изолированно от людей, так как их вид был невыносим для окружающих. Фильм начинается с показа этих деклассированных людей крупным планом, они снимают свои шелковые маски. Затем они срывают маску с лица войны.
Те, у кого война отняла лицо, показывают нам истинное лицо войны. И эта физиономия войны полна такой убийственной силы и такого мощного пафоса, каких не достигал еще ни один художественный фильм. Войну здесь показывают калеки, ужас показан глазами ужаснувшихся, муки — глазами мучеников, опасность — глазами подвергшихся опасности, смерть — глазами умирающих. Они действительно видели все это.
Кинокамера показывает панорамой умолкшее поле боя. Это пустынное безмолвие лунного пейзажа. Нигде ни травинки. У склона горы пушечные снаряды сорвали землю со скал, оголили их. Бесконечные ряды воронок от снарядов и окопы. Камера скользит долгой, медленной панорамой. Окопы, переполненные трупами, еще и еще. Бесконечные просторы, на которых ничто не шелохнется. Трупы и трупы. Панорама… И эта застывшая монотонность, приковывающая к себе, словно протяжный крик отчаяния…
Одна из сцен: целый полк, ослепленный ядовитым газом, гонят но горящим улицам Брюгге. Да, слепых гонят, как стадо баранов, подгоняют штыками и прикладами, чтобы они не попали в огонь. Картина, страшнее которой не могла бы нарисовать даже фантазия Данте!
Но здесь же показано нечто еще более страшное, хотя в сцене и нет ни одного человека: сады Шампани после отхода немцев. (Некоторые способы ведения войны немцы изобрели еще до второй мировой войны.) Мы видим мертвые поля издавна культивируемых садовых культур, тысячи фруктовых деревьев, и все они обрезаны на одной высоте, машинами, в идеальном порядке. Дело знаний и труда столетий уничтожено здесь с механической точностью. У этих изображений есть своя физиономия. Искаженные лица деревьев-трупов еще страшнее, чем мертвые люди. Но надпись во французском немом фильме гласит не «Посмотрите, вот немецкое варварство», a «C’ est la guerre» («Такова война»). Даже здесь французский пацифизм, столь возвышенный и глубокий, обвиняет не немцев, а войну. И именно поэтому во времена Веймарской республики в Германии демонстрация этого фильма была запрещена.
Бела Балаш
Кино: Становление и сущность нового искусства
Апокалипсис минувшей войны вызвал решительную переоценку возможностей документального репортажа. Ведь во время войны реальные события имели небывалый размах и значение. Они складывались в такую колоссальную постановку, по сравнению с которой декорации «Антония и Клеопатры» или «Нетерпимости» напоминают реквизит провинциальной театральной труппы. Но то была реальная постановка, и она не повторялась дважды. И драма тоже разыгрывалась «взаправду», ибо ее участники действительно умирали на поле боя под взглядом кинокамеры, как некогда умирали гладиаторы на арене цирка. Современный мир умудряется экономить на войнах, используя их дважды: и для истории, и для кино, подобно тому как не очень добросовестный продюсер снимает два фильма в одних и тех же декорациях. В данном случае мир прав. Война, с ее горами трупов, огромными разрушениями, переселением бесчисленных толп, концлагерями и атомными бомбами, оставляет далеко позади воображение всякого, кто захотел бы все это воспроизвести еще раз.
Увлечение военным репортажем связано, как мне кажется, с целым рядом требований психологического и, быть может, морального порядка. Ничто не может сравниться для нас с неповторимым событием, запечатленным в момент его свершения. Театр военных действий имеет перед обычным театром то несравненное преимущество, что пьеса создается по ходу спектакля. Это как бы комедия дель арте, в которой сама канва действия все время ставится под вопрос. Что касается средств, пущенных в ход, то нет никакой нужды подчеркивать их небывалую силу. Они достигают космических масштабов, и только землетрясения, извержения вулканов, наводнения и конец света могут выдержать сравнение с ними. Я говорю это без иронии, ибо не сомневаюсь, что первый выпуск киножурнала «Хроника вечной жизни» будет посвящен Страшному суду, по сравнению с которым Нюрнбергский процесс будет выглядеть примерно так же, как «Выход рабочих с фабрики» Люмьера.
Если бы я был пессимистом, я добавил бы сюда психологический фактор фрейдистского толка; я назвал бы его «комплексом Нерона» и связал бы с тем удовольствием, которое доставляет человеку зрелище разрушения городских сооружений. Если бы я был оптимистом, я ввел бы моральный фактор, о котором уже упомянул выше, говоря, что жестокость и насилия войны воспитали в нас уважение и почти что культ по отношению к реальному факту, делающему всякое, даже добросовестное, воспроизведение сомнительным, непристойным и святотатственным.
Но военный репортаж отвечает иной потребности, которая и объясняет его повсеместное распространение. Влечение к хроникальности, сопряженное с влечением к кино, — это не что иное, как выражение присущего современному человеку стремления присутствовать при свершении Истории, с которой он нерасторжимо связан как политической эволюцией, так и техническими средствами связи и разрушения. Эпоха тотальных войн — это неизбежно и время тотальной Истории. Правительства прекрасно это поняли, вот почему они стремятся с помощью кинохроники запечатлеть для нас все свои исторические деяния, подписание договоров, всевозможные встречи на высшем уровне и т. д. А поскольку История — не балет, где все расчислено заранее, то люди стараются разместить на ее пути как можно больше кинокамер, чтобы с тем большей уверенностью настигнуть историческое событие. Недаром воюющие нации предусмотрели кинематографическое оснащение своих армий наряду с оснащением военным. Оператор сопровождал бомбардировщик во время вылета, десант во время высадки. Вооружение истребителя включало автоматическую кинокамеру, помещенную между двумя пулеметами. Оператор подвергается такому же риску, как и солдаты, смерть которых он должен сфотографировать с опасностью для собственной жизни (но какое это имеет значение — пленка-то останется!). Планирование большинства военных операций включало тщательную кинематографическую подготовку. Кто может сказать, насколько чисто военная целесообразность отличается от ожидаемого зрелищного эффекта? […] Подумайте об атомной бомбардировке атолла Бикини. Только избранные были допущены присутствовать при этом зрелище (наподобие тех немногих, кто непосредственно участвует в телевизионных репортажах); но одновременно многочисленные кинокамеры запечатлели для нас с вами сенсационный момент. Подумайте также о Нюрнбергском процессе, который целиком происходил при свете юпитеров, как сцена суда в каком-нибудь полицейском фильме.
Мы живем в мире, где скоро не останется ни одного уголка, куда не заглянул бы глаз кинокамеры. Это — мир, стремящийся непрерывно снимать слепки со своего собственного лица. Документальные кадры, отснятые десятками тысяч камер, ежедневно обрушиваются на нас с сотен тысяч экранов. Кожа Истории шелушится, превращаясь в кинопленку. Какой-то киножурнал до войны назывался «Мировое око». Это название уже не кажется претенциозным теперь, когда бесчисленные объективы на всех перекрестках событий высматривают забавные, живописные или ужасные приметы нашей судьбы.
Андре Базен
По поводу фильма «Почему мы сражаемся?»
То, что отличает массовую культуру от прочих культур, — это постоянная, осуществляющаяся в массовом масштабе и в разнообразной форме экстериоризация агрессии, льющейся из комиксов, телевидения, кино, газет (ежедневные новости, хроника происшествий и катастроф), из книг (черные серии, криминальные и приключенческие романы). Пощечины, нападения, драки, битвы, войны, взрывы, пожары, извержения вулканов, наводнения беспрерывно обрушиваются на мирных жителей наших городов, и это насилие, потребляемое сознанием в неисчислимом количестве, компенсирует агрессию, отсутствующую в их жизни. Находясь в полной безопасности, мы можем испытать ее отсутствие, т. е. свободу, потому что «свободному человеку необходимо отсутствие безопасности», как сказал Эрих Фромм. В мирной тишине мы познаем войну. Мы пассивно получаем опыт убийства. Оставаясь невредимыми, мы переживаем смерть. Это последнее следует особенно подчеркнуть, потому что мы всегда проскакиваем мимо того, что агрессию порождает не только потребность познать убийство, но и потребность пережить и познать смерть: это ясно показывает детская игра в войну, когда дети находят радость не только в фиктивном убийстве, но и в фиктивной смерти и агонии… Во вспышке агрессии смутно проявляется неотразимая обворожительность смерти…
Эдгар Морен
Дух времени

П. Пикассо. Герника, 1937
В том, что касается темы войны и мира, мы дошли чуть ли не до сентиментальности, чуть ли не до избитых мест: ведь имеется сто тысяч способов подойти к этому вопросу, а нас пытаются заставить поверить, что тему войны можно ставить, только снимая фильм, в котором показывается война, тогда как можно сделать фильм о войне, показав двух людей, которые сейчас, в 1960 году, сидят в комнате, моют ноги и разговаривают между собой. Когда я говорю: «Фильм о войне», я имею в виду своего рода тему тем, синтезирующую чувство ответственности, которым человек должен обладать в отношении к жизни. Но затем я скандирую это слово — ответственность — во всех его значениях и готов принять самое из них необычное, лишь бы оно мне показывало в авторе произведения тотальную ответственность.[…]
Приведу крайний, самый простой пример, чтобы сразу же быть понятым: поставить девяностоминутный фильм о том, почему определенный человек голодает и умирает. Это будет фильм о войне и мире. Когда я рассказываю историю одной усталой женщины, которая готова заняться любовью с кем угодно, и описываю ее в течение девяноста минут — как она выбирает мужчину, потом идет куда-то и там занимается любовью, — это может быть фильмом о войне и мире. Когда я анализирую первый день детей в школе, и показываю, что среди этих детей имеется два или три социальных слоя, и следую за детьми в течение всего дня, фиксируя даже самые мелкие их поступки, то я могу создать фильм о войне и мире. То есть я делаю фильм о войне и мире всякий раз, когда проблема человека интересует меня действительно глубоко и я рассматриваю ее в контексте сегодняшнего дня.
Чезаре Дзаваттини
Поговорим о войне и о мире
… Там, где мы собирались снимать фильм о борьбе с басмачеством, оперировали настоящие басмачи, наводя страх на жителей. […]
Перед самым началом съемок ситуация неожиданно обрела дополнительную остроту. Чекисты узнали, что весть о приезде киногруппы дошла до ушей Ярмат-максума. Его разобрало любопытство. Особый интерес у курбаши вызвало то, что, как ему передали, картина посвящена, дескать, именно ему, Ярмат-максуму, а его врага, красного командира, изображает человек с именем, ужасно похожим на его собственное, — Ярматов Камиль. Словом, басмач вознамерился обязательно глазами взглянуть, что это за диковинка — киносъемка.
Чекисты решили воспользоваться «любознательностью» Ярмат-максума и захватить курбаши. Знали об этом только Сабинский и я. К массовке присоединился переодетый в «басмачскую» одежду кавалерийский эскадрон.
[…] Вот тут-то и пожаловали к нам гости. Ярмат-максум не переборол своего любопытства.
Приданный нам эскадрон был наготове. Прозвучала команда: «По коням!» — и кавалеристы стали охватывать Ярмат-максума дугой. Басмачей было немного, они сразу повернули назад, в горы. Эскадрон бросился в погоню.
Я тоже не выдержал — заговорило ретивое! — схватил ручную камеру «Кинамо» и пришпорил коня. Гнались мы за басмачами довольно долго, расстояние между нами было значительным, и они, и мы не стреляли. Но у подошвы гор басмачи спешились, залегли в цепь и открыли пальбу. Наши ответили плотным огнем, а потом рванули в атаку конным строем. Ярмат-максум и его люди исчезли, словно их и не было.
С того момента, как вспыхнула перестрелка, я завертел ручкой «Кинамо». Так вместо организованного на площадке у нас на пленке оказался запечатленным настоящий бой, срежиссированный самой жизнью. Он и вошел в ленту. […]
Сделанная Ч. Сабинским и Ф. Вериго-Даровским картина мне лично понравилась.
Камиль Ярматов
Возвращение
По утрам выпиваю чашку кипятку с крохотным кусочком хлеба и начинаю готовиться к походу. Детские саночки, ведро для воды, под полушубком за пазухой кинокамера «Аймо». Груз очень велик, почти невыносим для меня. Но все это необходимо.
На улице — знакомая картина. По тропкам, промятым в снегу, тянутся ленинградцы с детскими саночками, на них сосуды для воды. Вот две женщины, впрягшись в санки, с трудом везут на них закутанного в одеяло человека. Это — мужчина. Мужчины особенно тяжело переживают голод. У ворот одного дома лежит завернутый в простыню мертвый человек.
На углу проспекта Маклина и улицы Декабристов горит большое шестиэтажное здание. Возле него стоят вмерзшие в лед, засыпанные снегом пожарные машины. От машин тянется, теряясь в снегу, пожарный шланг. Когда загорелся дом, пожарные пытались качать воду из проруби на реке Пряжке, но это оказалось выше их сил, и они ушли, а машины остались. Там они и зимовали до весны 1942 года. […]
Снимая, постепенно приближаюсь к Пряжке. Здесь начинается самое сложное — спуск к проруби, крутой и скользкий. Прежде чем спуститься, снимаю ленинградцев, берущих воду из проруби.
Я не знаю, что будет с пленкой, на которую сейчас снимаю. Студии практически не существует, связей с работниками нет. В последний раз дней десять назад видел оператора Костю Станкевича. Даже не знаю, все ли живы. И все равно каждое утро, собираясь в поход за водой, я беру с собой камеру. Я знаю, что я должен, обязан выходить на улицу и снимать.
Ансельм Богоров
Записки кинохроникера
Сейчас я думаю: почему я не снимал всего виденного на этой дороге смерти. Я потерял цель. В первые часы все казалось ничтожным по сравнению с тем, что открывалось перед нами. Я даже не поднял «Аймо». […] Не снимал страданий людей. Почему? Мы были твердо убеждены, что снимать нужно героизм, а героизм, по общепринятым нормам, не имел ничего общего со страданиями.
Владислав Микоша
Из воспоминаний об отступлении в июне 1941 г.
Я оглянулся — за мной лежала вся Южная Африка до самого Кейптауна — и расстояние казалось очень большим. У меня было ощущение, что я мог бы преодолеть его за пять минут при нормальных условиях, но — не под прицельными выстрелами в спину. Скорострельные пушки вновь начали стрелять по голым скалам, где снаряды не просто падали, а взрывались. Появилась неторопливо двигавшаяся колонна пригнувшихся к конским гривам всадников и через две минуты скрылась на северной стороне. «Наши скорострельные пушки, — сказал корреспондент. — «Ле Галле», наверно. Теперь осталось недолго». Все это время бестолковый Крупп отыскивал нас, вместо легких кавалеристов, и еще через несколько часов, пожалуй, мог бы кого-то убить. Потом слева, почти над нами, небольшая рощица заполнилась дымом от нашей шрапнели, наподобие того, как усы заполняются табачным дымом. Это было весьма впечатляюще и длилось добрых двадцать минут. Потом тишина; затем движение пехоты и конницы с нашей стороны вверх по склону, а из сарая, по которому вели огонь наши пушки, их непрерывно обстреливали. Конница буров на гребнях холмов; последний огонь скорострельных пушек справа, последний ряд спокойных всадников уже за пределами ружейного выстрела.
— Maffeesh, — сказал корреспондент и принялся писать, держа блокнот на колене. — Мы отогнали их.
Редьярд Киплинг
Немного о себе для моих друзей — знакомых и незнакомых
Прошло много, очень много времени. Наконец она рискнула взглянуть сквозь чуть разжатые пальцы, посмотрела вторично, посмотрела еще, и вдруг, охваченная диким любопытством, почувствовала, как ее покидает страх и какая-то часть ее горя.
Потом внезапно она почувствовала, что не в силах отвести глаз от странной агонии лица.
Ее руки освободили лицо, упали на колени, и она неподвижно смотрела, смотрела — вопреки себе.
И от этого рассматривания, подобно тому как в палате госпиталя проносится среди больных заразительный поток нервических припадков, рот, губы трагической актрисы, помимо ее воли, стали повторять все движения рта и губ умирающего, воспроизводить то острое и страшное, что было в этом смехе на лице агонизирующего.
Ибо то не была печальная улыбка, неопределенная и оспоримая. Теперь это уже был смех, — да, смех, появляющийся и исчезающий в одно время с хрипением горла, смех, кривящий в какой-то дикой иронии сведенные губы, смех, бегущий в мрачном rictus’ е последних конвульсий, смех, обычно являвшийся нежной печатью счастья и радости и ставший какой-то ужасающей сатанинской карикатурой; словом, самая изумительная вещь, какую дано видеть драматическому артисту.
И это зрелище, убив на мгновение любящую, насильно заставило в женщину войти актрису.
И незаметно, от имитации нервной и невольной, вопреки своему состоянию в этот час, Фостэн была деспотически приведена к имитации сознательной, словно работая над ролью, над агонией театрального эффекта; и смех, который подмечала она на губах своего любовника, скоро стал для нее объектом искания: тот ли он, что у нее на губах? — и она оборачивалась и искала ответа в стрельчатом зеленоватом зеркале старого туалета, стоявшего сзади нее.
Эдмон де Гонкур
Актриса
Тригорин. … О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение ока помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелио-тропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти слова и фразу в свою литературную кладовую: авось пригодится! […] И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. […]
Хорошо у вас тут! (Увидев чайку.) А это что?
Нина. Чайка. Константин Гаврилыч убил.
Тригорин. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. (Записывает в книжку.)
Нина. Что это вы пишете?
Тригорин. Так, записываю… Сюжет мелькнул… (Пряча книжку.) Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку.
Пауза.
Антон Чехов
Чайка
С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию, и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целию выставить себя самого. Так и читалось между строками: «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам все это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза — не правда ли, как это интересно?»
Федор Достоевский
Бесы

П. Брейгель. Избиение младенцев, 1565
Написав свои замечания о нищете и войне, я потер от удовольствия руки (само собой разумеется, в уме), вполне доволен собой. Что-то вроде этого гнусного чувства: «Вот молодец, благородный человек. Сам на войне, а находит в себе нерастраченные силы, чтобы посочувствовать нищете других людей». Сразу после этого у меня возникла идея (непредвзятая) занести эту реакцию в дневник. […] Но чем больше я анализирую это решение, тем больше мне кажется, что ему не чужда идея некоего романического, приятного и лестного для читателя поворота, словно бы читателю предписывалось подумать: «Вот здорово». В конце концов записываю свои реакции в совершенном спокойствии, с единственной заботой быть точным.
Жан-Поль Сартр
Из военных дневников
«… Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону…» –
«Рад показать! …»
Николай Некрасов
Железная дорога
Меня охватывает сомнение в самой возможности рассказать. Не потому, что пережитое невыразимо. Оно было невыносимо, а это совсем другое, это легко понять. Трудность не в форме возможного рассказа, а в его сути. Не в связности повествования, а в его насыщенности. Эту суть, эту насыщенность сможет передать только тот, кто сумеет превратить свои свидетельские показания в предмет искусства, в пространство созидания. Или воссоздания. Только владея искусством рассказа, удастся хотя бы частично передать ту истину, которой был свидетелем. Но в этом нет ничего исключительного, так бывает со всеми пережитыми важными историческими событиями.
Короче говоря, сказать можно все. […] Можно все рассказать об этом жизненном опыте. Стоит только захотеть. И взяться за это. Конечно, нужно иметь время и мужество для рассказа беспредельного, вероятно, нескончаемого, озаренного — и, понятно, тем самым ограниченного — самой возможностью продолжаться до бесконечности. Даже если будут повторы. Даже если из них не удается выбраться, рискуя в случае необходимости продлевать смерть, беспрестанно воскрешать ее в мельчайших подробностях повествования, рискуя стать языком смерти, жить за ее счет, в ее объятиях.
Но можно ли все это понять, вообразить? Возможно ли такое вообще? Хватит ли у них терпения, способности страдать и сострадать, необходимой твердости духа? Сомнение охватывает меня с первой же минуты, с первой встречи с людьми, пришедшими извне, из жизни…
Хорхе Семпрун
Писать или жить
Дело в том, что я ношу в себе второе зрение, составляющее одновременно и силу, и несчастье писателей. Я потому пишу, что понимаю все существующее, что страдаю от него, что слишком его знаю, и более всего потому, что, не имея возможности им насладиться, я созерцаю его внутри себя, в зеркале своей мысли.
Пусть нам не завидуют, а жалеют нас, ибо вот чем писатель отличается от себе подобных.
Для него не существует больше никакого простого чувства. Все, что он видит, его радости, удовольствия, страдания, отчаяние — все мгновенно превращается для него самого в предмет наблюдения. Вопреки всему, вопреки своей воле он беспрерывно анализирует сердца, лица, жесты, интонации. Как только он что-нибудь увидал и что бы ни увидал, ему тотчас надо знать: а почему это? У него нет ни одного порыва, ни одного восклицания, ни одного поцелуя, которые были бы искренни, ни одного из тех непосредственных поступков, который совершают потому, что так нужно, совершают, не осознавая, не размышляя, не понимая, не отдавая себе отчета.
Если он страдает, он берет на заметку свое страдание и дает ему определенное место в своей памяти. Возвращаясь с кладбища, где он оставил того или ту, кого любил больше всего на свете, он думает: «Как странно то, что я испытал; это было какое-то болезненное опьянение и т. д.». И тут он начинает припоминать все подробности: вид и позы стоявших рядом с ним людей, фальшивые жесты, фальшивую скорбь, фальшивые лица и тысячу незначащих мелочей, — наблюдения, доступные лишь художнику, — крестное знамение старушки, державшей за руку ребенка, луч света в окне, собаку, перебежавшую дорогу процессии, вид погребальных дрог под высокими кладбищенскими тисами, лицо факельщика, искаженные черты и напряженные тела четверых мужчин, опускавших гроб в могилу, — словом, тысячу вещей, которые всякий порядочный человек, страдающий всей душой, всем сердцем, всем существом, никогда бы и не заметил.
Он невольно все видел, все запомнил, все отметил, потому что он прежде всего писатель, потому что его ум устроен таким образом, что отражение звука у него гораздо сильнее, гораздо естественнее, если можно так выразиться, чем первое сотрясение; эхо у него более звонко, чем первоначальный звук.
У него словно две души: одна из них регистрирует, истолковывает и комментирует каждое ощущение своей соседки, обыкновенной, как у всех людей, души. И он живет, осужденный на то, чтобы всегда, при всяком случае, быть отражением самого себя и отражением других, осужденный наблюдать, как сам он чувствует, действует, любит, думает, страдает, и никогда не страдать, не думать, не любить, не чувствовать, как прочие люди — чистосердечно, искренне, попросту, не анализируя себя после каждой радости и каждого рыдания. […]
Одновременно актер и зритель в отношении самого себя и других, он никогда не бывает только актером, как бесхитростно живущие простые люди. Все вокруг него делается прозрачным, как стекло: сердца, поступки, тайные намерения, — и он болеет странной болезнью, каким-то раздвоением ума, отчего и становится существом, страшно вибрирующим, превращенным в механизм, сложным и утомительным для себя самого.
Свойственная ему особенная и болезненная чувствительность вдобавок превращает его как бы в человека с содранной кожей, для которого почти все ощущения оборачиваются страданием.
Ги де Мопассан
На воде
Что к нам доходит чрез слух, то слабее в нас трогает сердце,
Нежели то, что само представляется верному глазу
И чему сам свидетелем зритель. Однако ж на сцене
Ты берегись представлять, что от взора должно быть сокрыто
Или что скоро в рассказе живом сообщит очевидец.
Нет, не должна кровь детей проливать пред народом Медея,
Гнусный Атрей перед всеми варить человеков утробы,
Прокна пред всеми же в птицу, а Кадм в змею превратиться:
Я не поверю тебе, и мне зрелище будет противно.
Гораций
Наука поэзии
Вы спрашиваете,
почему я не говорю о мечтах,
о листьях,
о больших вулканах моей земли?
Смотрите: на улице кровь.
Смотрите:
кровь
на улице!
Пабло Неруда
Испания в сердце
Когда Филипп распродавал олинфийцев, захваченных в плен, Паррасий, живописец города Афины, купил одного из них. … Паррасий привел его в свою мастерскую и поместил у северного окна, где было самое яркое освещение. Проморив старика голодом еще три-четыре дня, он велел двум своим рабам подвергнуть его пыткам. Именно с этой модели Паррасий и написал своего Прометея. … Оправдательное слово Паррасия звучало в высшей степени лаконично: «Emi», — произнес он (Я купил его). Затем добавил: «Я купил этого человека, достигшего старости. Я изобразил героя в муках, которые ему довелось претерпеть. … Прометей любил людей. Своей картиной я напомнил людям об этом акте любви. Я даровал жалкому телу, которому оставалось всего несколько мгновений жизни, вечную славу». …Латрон развил эту тему следующим образом:
— Parrhasi, morior.
— Sic tene.
«Паррасий, я умираю!» — простонал старик, испуская дух под пытками. В ответ Паррасий крикнул ему: «Вот-вот, так и замри!»
Паскаль Киньяр
Альбуций
Какую бы глубокую симпатию мы ни испытывали к живому существу, мы воспринимаем его главным образом чувством, следовательно, оно остается для нас непрозрачным, оно представляет собой для нас мертвый груз, который наша впечатлительность не в силах поднять. Если с живым существом случается несчастье, то лишь крохотная частица нашего общего о нем представления приходит в волнение… Находка первого романиста состояла в том, что он додумался до замены непроницаемых для души частей равным количеством частей невещественных, то есть таких, которые наша душа способна усвоить.
Марсель Пруст
По направлению к Свану
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток…
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать…
Скажите ж мне, о чем писать? …
…
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон спокойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя жизнь мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю.
Михаил Лермонтов
Журналист, читатель и писатель
Собственная кровь, собственная судьба — вот требование сегодняшней литературы. …Писатель — не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли. Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад. …
Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. … Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой.
Не проза документа, а проза, выстраданная как документ.
Варлам Шаламов
О прозе
Потом, когда все окончено, получается фильм. Видишь его на экране, слышишь шумы и музыку. И свой собственный голос, которого раньше никогда не слыхал, звучит перед тобой и говорит слова, набросанные наспех, на клочках бумаги в темноте проекционной или в жарком номере гостиницы. Но то, что движется перед тобой на экране, совсем не то, что приходит на память.
Прежде всего вспоминаешь, какой был холод; как рано приходилось вставать по утрам; как ты уставал до такой степени, что в любую минуту готов был свалиться и уснуть; как трудно было добывать бензин и как мы все постоянно бывали голодны. Кроме того, была непролазная грязь, а наш шофер был страшный трус. Ничего этого в картине не видно, кроме, пожалуй, холода, когда дыхание людей в морозном воздухе заметно и на экране. […]
Кроме холодной части фильма я очень ясно помню и жаркую его часть. В жаркой части приходилось бегать с аппаратом, в поту, прячась за выступами голых холмов. Пыль забивалась в нос, пыль забивалась в волосы, в глаза, и мы испытывали страшную жажду, когда во рту все пересыхает, как бывает только в бою. Оттого что в молодости пришлось повидать войну, ты знал, что Ивенс и Ферно будут убиты, если они и дальше будут так рисковать. И перед тобой вечно стояла моральная проблема: в какой степени ты их удерживаешь на разумной и основанной на опыте осторожности, а в какой степени это просто не столь красивая осторожность обезьяны, обжегшейся на молоке. Эта часть фильма в моей памяти — сплошной пот, и жажда, и вихри пыли; и, кажется, на экране это тоже немножко видно.
И вот теперь, когда все уже кончено, сидишь в кинотеатре, и вдруг начинается музыка, и видишь: танк движется, как корабль, грохоча в пыли, запомнившейся так крепко, что снова пересыхает во рту. В молодости смерти придавалось огромное значение. Теперь не придаешь ей никакого значения. Только ненавидишь ее за людей, которых она уносит. […]
И если вы не возражаете, я больше не пойду смотреть «Испанскую землю». И писать о ней тоже не буду. Мне это не нужно. Ведь мы там были. Но если вы там не были, я считаю, что вам следует посмотреть этот фильм.
Эрнест Хемингуэй
Жара и холод: Послесловие к дикторскому тексту фильма Йориса Ивенса «Испанская земля»