Долгая счастливая смерть
Перед лицом вселенской катастрофы неуместен догматизм. Поэтому отсчет
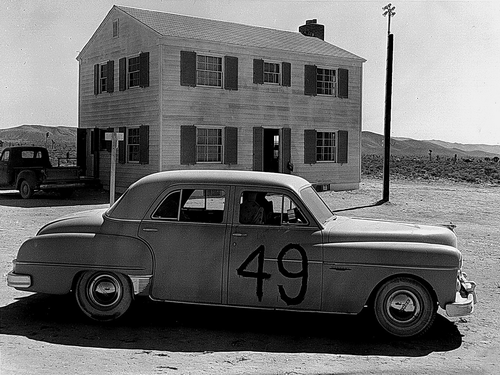
Эта позиция в точности совпадает с экономической философией капитализма, над которой посмеивался еще Маркс («до сих пор была история, а теперь ее нет»). Марксизм — особенно в советском изводе — и сам подчинился точно такой же гегелевской логике прогрессирующего нарратива. Поступательное развитие истории логичным образом вело к Октябрю, пожару Гражданской войны и поэтапному строительству идеального общества. Так что весь корпус фильмов о победе красных над белыми и последующем восстановлении народного хозяйства можно смело отнести к оптимистической постапокалиптике: «Республика ШКИД» — это
Марксистский литкритик Фредерик Джеймисон утверждал, что модернизм отличается нетерпеливым ожиданием будущего, в то время как постмодернизм (по Джеймисону, он начинается после Тэтчер и Рейгана) уже ощущает близость финала. Впрочем, скорбное предчувствие неприятностей было обычным делом уже в начале века — вспомним депрессивные предсказания Шпенглера накануне Первой мировой. Модернистский послевоенный «Любовник леди Чаттерлей» тоже начинается с отчетливо постапокалиптической сентенции: «Век наш по сути своей трагичен, и поэтому мы отказываемся воспринимать его трагически. C миром произошла катастрофа, мы оказались среди руин, но сразу же начали строить новые жилища, лелеять новые надежды. Нам сейчас нелегко, путь в будущее полон препятствий, но мы преодолеем или обойдем их. Мы должны жить, невзирая на все обрушившиеся на нас трудности». Вся печальная эсхатологическая литература XX века пронизана этим ощущением незаконченного ремонта и несдержанного обещания. Апокалипсис наших дней — это все, что у Иоанна Богослова, минус второе пришествие. И потому кажется очень странным, что библейские аллюзии проникли в соответствующий жанр кино только к шестядесятым, когда человечество уже устало бояться и полюбило атом.

Хотя, конечно, в пятидесятых страх Третьей мировой был так силен, что вся киноапокалиптика отталкивалась исключительно от ядерного удара. Накануне Карибского кризиса про бомбу снимали даже японцы (оба фильма, 1960 и 1961 годов, назывались одинаково — «Последняя война»), чего с ними больше никогда не случалось: в стране, все настоящее которой — постапокалипсис, конец света представляют как концерт группы Stalin, гастроли Einsturzende Neubauten или что там еще модно на текущий момент.
В 1959 году в Штатах выходит фривольный, с намеками на межрасовый ménage à trois «Мир, плоть и дьявол» (Рэнальд МакДагалл),
На этом оптимистическом фоне мрачными реликтами пятидесятых выглядят «День триффидов» (Стив Секели, Фредди Фрэнсис, 1962) и «Последний человек на Земле» (Убальдо Рагона, Сидни Салков, 1964); собственно, эти фильмы и поставлены по мотивам антисоветской фантастики предыдущего десятилетия. В первом гибель человечества наступает в результате экспансии разумных кустов — триффидов, выведенных лысенковской наукой. Второй, экранизация вечно актуальной книги Ричарда Мэтисона «Я — легенда» (кинематографисты обращались к ней четырежды; в последний раз на Земле остались Уилл Смит и его овчарка), оказывается буквальной иллюстрацией к обещанию апостола Павла «не все умрем, но все изменимся». Всемирная эпидемия вампиризма в этой первой экранизации романа остановлена силами самих носителей вируса, строящих теперь новый порядок с черной униформой и осиновыми колами стандартного образца (понятен намек на скучное тоталитарное общество Варшавского договора). В финале герой, кровь которого способна полностью излечить мир, приносится в жертву — ополченцы, не ведающие что творят, закалывают его практически на алтаре. Но пользы от этого жертвоприношения никакой: последний человек проклинает грядущую расу, финал внушает уверенность в том, что полувампиры не причастятся антител чудесной крови и не вернутся к человеческой физиологии. Самая кощунственная деталь в фильме не акцентируется, хотя и не скрывается: ужасающие Новые Люди — не просто кровососы, так и не преодолевшие последний рубеж и зависшие между смертью и распадом, но восставшие из могил зомби, которые таки обрели обещанную «жизнь вечную». Эта досадная недосказанность будет исправлена только через десятки лет — в «28 днях спустя» (2002). Дэнни Бойл и Алекс Гарланд ясно дадут понять, к чему может привести неконтролируемое воскрешение мертвых.

Образ восставших мертвецов оказался так силен, что все прочие, более буквальные обращения к библейской тематике выглядели пафосно до неприличия. Невезучий «Ной» (Даниель Бурла, 1975), где последний человек создает новый мир в собственной голове, наполняя его голосами ушедшего. Катастрофически старомодная «Книга Илая» (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз, 2010), в которой герой Дензела Вашингтона с мачете и обрезом оберегает благую весть, мотаясь по постъядерной пустыне. Слезливая «Дорога» (Джон Хиллкоут, 2009), утверждающая, что когда мир превратится в горелое полено, а люди — в злобных каннибалов, только чистые сердцем смогут выжить, пронести и сохранить…
Да и вообще — с наступлением депрессивных семидесятых людей больше стала интересовать внутренняя политика, нежели душа. Панковское no future читалось в самых обыкновенных фильмах: катастрофа была уже на дворе, она пришла по экономической линии. Это ведь невидимая рука рынка — а вовсе не советские бомбы — превратила
Возьмем, к примеру, кино «Парень и его собака» (Эл Кью Джонс, 1985). Выстроенный по всем правилам канонической
В общем, в семидесятых все шло к осознанию того, что апокалипсис происходит прямо сейчас. Однако, несмотря на намеки Копполы, понадобилось еще двадцать лет, чтобы no future сменилось на киберпанковское future is now. Стоит ли добавлять, что это будущее оказалось ужасным. Режиссеры в это время развлекались в основном «Безумным Максом» (Джордж Миллер, 1979), «Роллерболом» (Норман Джуисон, 1975) и тому подобными вещами. Но были и исключения: гонка вооружений, аукавшаяся в Голливуде зубодробительными шедеврами вроде «Красного рассвета» (Джон Милиус, 1984) или «Джек Тиллмэн: Выживший» (Сиг Шор, 1987), вызывала прилив гражданской активности на левом фланге. Пока Рейган готовился к войне, британские режиссеры с BBC выступали

Пропустим недолгий период страхов перед искусственным интеллектом и перейдем прямо к «Матрице» (Энди Вачовски, Ларри Вачовски, 1999). Революционность этой последней антиутопии девяностых — в ее странном, прописанном между строк реализме. При всех фантастических подробностях вроде воткнутых в мозг кабелей и виртуальных партизан, «Матрица» однозначно читалась (и читается до сих пор) как критика настоящего. Компьютеры и виртуальное — лишь маскировка для старых понятий вроде общества спектакля, симулякра или тела без органов. «Ложки нет», — говорили братья Вачовски. «И меня нет», — договаривал зритель.
«То, чему мы, вероятно, свидетели — не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления», — писал Фукуяма по случаю падения Берлинской стены, словно забывая о том, что для доброй половины философов идеологическая эволюция человечества закончилась на сорок лет раньше, с Освенцимом и Хиросимой. Удвоение есть усиление, и ощущение конца, подкрепленное атакой на ВТЦ, не покидает нас до сих пор (недавнее телешоу Славоя Жижека так и называлось — «Жизнь в последние времена»). Разумеется, вера одних в наступивший на земле рай и вера других в конец времен никак друг другу не противоречат — Судный день и должен разразиться посреди утешительного самообмана. Но отличительной особенностью сегодняшнего конца света оказывается то, что он наступает без кровавых дождей и молний, обыденно, как у Куарона в фильме «Дитя человеческое» (2006). Армагеддон распадается на множество маленьких, локальных боен. Вместо берлинской вокруг растут новые стены, отделяющие грешников от праведников, мексиканцев от американцев, бедных от богатых, палестинцев от израильтян. Настоящее уже неотличимо от киберпанковского future is now.
Явная условность, ложность этой временной дистанции — не только художественное средство, но и сообщение: действие
В силу перекоса японской киноиндустрии в сторону аниме (с приматом эстетики над драматургией) все

С другой стороны, бред параноика Шребера удивительно напоминает чисто западные киносценарии
Читайте также
-
Проруха и обух — «Отец Мать Сестра Брат» Джима Джармуша
-
2025: Итоги Василия Степанова
-
Ни здесь, ни там — «Где приземлиться» Хэла Хартли
-
Совесть и трансильванцы — «Континенталь ’25» Раду Жуде
-
Неправильные пчелы — «Бугония» Йоргоса Лантимоса
-
Русский след — Русская литература в руках героев зарубежного кино







