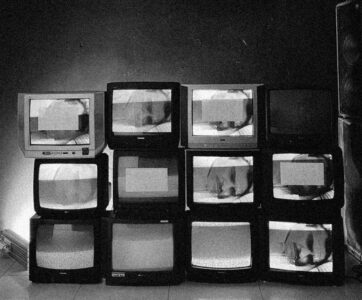Груз утопии

Алеша Зимин. Фото из семейного архива
Это делалось так. Надо было высыпать в эмалированную миску три стакана сухого младенческого прикорма, добавить немного кипяченой воды и тщательно перемешать. То, что получалось, походило по виду на гашеную известь, только пахло иначе. Запах этот трудно описать. Наверное, так могла бы пахнуть грудь кормящей Родины-матери. Но это было, в общем, неважно. Потому что в еще теплую смесь надо было успеть накрошить на терке плитку соевого шоколада, еще раз перемешать до темно-карамельной густоты, лязгая ложкой по эмали, чуть подогреть на водяной бане, чтобы шоколад подтаял. Еще раз перемешать, подождать, пока смесь схватится и слегка затвердеет, и тогда уже налепить крошечных шариков, посыпать их шоколадной крошкой и поставить на пару часов в морозильник, чтобы потом подать к чаю, виновато и торжествующе проговорив: «У нас сегодня трюфели». Пальцы потом долго еще были в бурой пыльце, как после охоты на бабочек-шоколадниц.
В кулинарной практике есть такое понятие «гастрономия голода». Это когда с малосъедобными, в сущности, вещами — чертополохом, лебедой или детским питанием — обращаются по законам парижских ресторанов. Чаще всего такое бывает во время войны, экономических кризисов и прочих существенных социальных бедствий. Это разновидность компенсаторики, симпатической магии. Когда «не еда», если с ней обращаться по законам гастрономии, пресуществляется, становясь «как бы едой». Обычный психологический фокус. Люди постоянно проделывают его со своей памятью. Ахматова говорила об одном поэте: «Он занят мечтами о своем прошлом». Очень точный образ романтической ностальгии, которая есть пресуществление, память голода, работающая по технологии, описанной в русской частушке: «отъебися все плохое, приебись хорошее».
Эта универсальная мантра, сентиментальная попытка съесть дважды один и тот же сублимированный трюфель тем не менее не объясняет до конца феномена ностальгии по советскому прошлому, которая зачастую лежит вне традиционных этических категорий и необъяснима для самих ностальгирующих. Об этом пел Шнуров: «И вроде бы все есть, / И даже что поесть, / Но вот только когда напьюсь, / Мне снится Советский Союз». Герой песни так и не понимает до конца причин этой сновидческой парадигмы, оставаясь в приподнятом недоумении: «Но вот что-то все не то / И непонятно что». Советская эпоха для человека его поколения — почти фантомная быль. И сны о Советском Союзе здесь не оправдание прошлого, а альтернативный вариант будущего. Не социального, а личного будущего. Причем необязательного, фантомного. Своего рода повышение градуса — водка после портвейна.

Примерно так к Советскому Союзу все время его существования относилась илья-эренбурговская публика за железным занавесом. СССР для какой-нибудь Симоны де Бовуар был радикальным сюжетным ходом, лихой авантюрой, а не гуманитарной катастрофой. Он был привлекателен своей грубой, горгулической инакостью, инопланетностью и одновременно какой-то детской земной простотой — вроде карточной игры в «пьяницу».
Советский Союз, несмотря на свои размеры, а возможно, и благодаря им помещается в любой, самый крошечный чемоданчик смыслов. На карте мирового духа он что-то вроде буквы «Ш” с плаката в кабинете офтальмолога: даже самый подслеповатый человек не промахнется.
Все граждане СССР действительно имели право на труд, и медицина была действительно бесплатной. Как и образование. Спорить с качеством и того, и другого, и третьего — бессмысленно. Тем более что в советском сознании не было принято спорить по существу предъявляемых обвинений — «зато мы делаем ракеты». Плюс на минус вопреки законам арифметики должен был давать плюс.
Советский Союз был реальной интернациональной империей с экзотическими интернациональными интересами в самых разных частях света и мог грозить всему миру как ботинком с трибуны ООН, так и ракетой из шахты под Уссурийском.
В Советском Союзе были и равенство, и выстроенная десятилетиями чисток система элит довольно прозрачного по происхождению и многочисленного по составу — в отличие от нынешних высших страт — красного дворянства.
Даже отрицательные качества СССР вроде его карательной системы и тусклого быта можно трактовать с симпатией. Инакомыслие являлось проблемой реального, а не мнимого экзистенциального выбора. Враги и друзья были очевидны, а недостаток трюфелей и музыкальных радиостанций замещался кустарной изобретательностью и Ленинградским рок-клубом.
Империя, как всякая серьезная женщина, настаивает на определенности отношений. И этот дух предельной метафизической и физической внятности, ушедший вместе со страной, наверное, и есть самый острый предмет ностальгических переживаний.

С одной стороны, ты мог переживать сильные ощущения, слившись с миллионами в соборном чувстве Родины, с другой — ты мог переживать аналогичное по силе чувство, на эту соборность плюя.
Трансляция в современность советских имперских чувств — штука вполне понятная и находящаяся вполне в рамках мировой традиции. Империя, лишенная имперской судьбы. У нас была великая эпоха. Технология ностальгических камланий тут одинакова: что в Лиссабоне, что в Вене, что в Череповце. Это все та же попытка второй раз съесть сублимированный трюфель, на этот раз, для пышности момента, завернув его в красный флаг.
А вот протестные отношения с Советским Союзом могли быть многообразны и неисчерпаемы, как диеты. Страна больших цифр была легко уязвима в самом малом. «Есть — отстуканы четыре копии! Есть магнитофон системы «Яуза»! / Этого достаточно! ” — пел Галич. Когда еще у инакомыслия будет такой простой и вместе с тем эффективный инструмент, когда еще будет ценен самый ничтожный жест, когда еще прослушивание песен будет актом гражданского неповиновения?
Советский Союз был тем учителем, который всегда готов был вытащить двоечника на тройку. Неважно, был ли двоечник его сторонником или противником. Противнику приходилось прикладывать даже меньше усилий. Группе «Аквариум», чтобы прославиться, достаточно оказалось выкрасить волосы в нетипичный цвет и совершить на тифлисской сцене несколько подозрительных телодвижений.
Стартовый капитал большинства других икон русского рока был еще жиже. Но это было время, когда даже почесывание за ухом можно было воспринимать как жест. В смысле символической пластики Советский Союз дает фору всему европейскому XVIII веку с его разветвленной системой аллегорий.
Символы росли из самого древа советской жизни, как опята.
Поход за пивом был равен походу бодхисатвы на север.
«Дефицит» — ключевое слово советского быта. Но ведь его можно заменить другим — «аскеза». Ограниченность, стесненность в средствах позволяла вещам стать больше, чем сами вещи, поэтам быть больше чем поэтами. Нужно иметь слишком разыгравшееся воображение, чтобы сравнить сегодняшнюю вылазку в супермаркет с дорогой в Дамаск.
Это раньше пиво было Пивом с большой буквы, как в немецких словарях, сегодня это просто дурная бесконечность брендов. Вещь, не стоящая бытовой мистики.
Советский Союз поставлял всем заинтересованным сторонам бесчисленные возможности для героизма. Героем мог стать каждый: на работе, дома, в поле или в джунглях Вьетнама. Даже профессиональная халтура имела пусть анекдотический, сниженный, но героический привкус. Один тассовский журналист, вспоминая о годах, проведенных в нью-йоркском корпункте, рассказывал, что пили там, конечно, страшно. И добирались до телетайпов, в сознание не приходя. Но технология производства новостей была такова, что сознание и не требовалось. И сколько бы ни было выпито, «все равно летят в Москву чеканные фразы».

Сочетание исполненного долга и мошенничества, честности и воровства было в СССР совершенно органическим состоянием. Как в плутовских романах.
СССР, если смотреть на него из сегодняшнего дня, вообще кажется весьма литературным созданием. Монстром, переламывающим хребты, но проигрывающим в карточной игре. Как и всякой литературой, а значит — выдумкой, Советским Союзом из сегодняшнего дня легко манипулировать. И кажется, что легко было манипулировать и тогда. Достаточно включить нужный риторический регистр — патриотический или ернический — и он, этот неповоротливый простодушный громила, будет твоим.
Как в старом советском анекдоте.
Военно-Грузинская дорога. По дороге пылит разбитый пазик, нафаршированный иностранными туристками. За рулем хрестоматийный грузин: кепка-аэродром, усы и сигарета в зубах.
На въезде в какую-нибудь Кахетию девушкам захотелось сходить по нужде.
Пазик лихо тормозит, поднимая столбы придорожной пыли.
Девушки исчезают в клубах этой пыли, на ходу задирая юбки, но через минуту с воплями вбегают обратно в автобус.
Крики, паника, кошмар. Причина выясняется довольно быстро. Из-за гор вылезает циклопическое чудовище, похожее на смесь волка, медведя и паука, с огромным, налитым кровью членом.
Чудовище щелкает зубами и разбрызгивает сперму. Рычит и тянет когтистые лапы к интуристкам. Грузинский водитель невозмутимо захлопывает двери пазика и меланхолично курит. Интуристки в шоке. Чудовище хватает автобус и начинает совокупляться с ним через выхлопную трубу. Трещат ненадежные стенки, лопаются хлипкие стекла. Чудовище шумно кончает и убегает обратно в горы. Невозмутимый грузинский водитель включает зажигание, поворачивает улыбающееся лицо в салон и гордо спрашивает: «Страшно? А мы таких ловим и ебем».
Как было сказано в другом месте: у советских — собственная гордость. Но едва ли можно объяснить ностальгический промискуитет одной только гордостью. А что, если это — любовь?