Бела Тарр: «Потому что Бога нет»
Как именно вы познакомились с Ласло Краснахоркаи [писатель, сценарист и постоянный соавтор Белы Тарра — прим. ред.]?
Нас познакомил в 1985 году общий друг Петер Балашша, редактировавший тогда одно из произведений Краснахоркаи. Он также передал мне рукопись «Сатанинского танго». Я прочитал ее и сразу позвонил Ласло.

Принято считать, что в результате возникшего плодотворного тандема вы переключились с социальных проблем на критику мироустройства. Однако уже по «Макбету» (1982) хорошо видно, что перелом начался задолго до этой встречи.
Да, он начался примерно в 1982-м… начиная с «Крупноблочных людей». Когда я делал первый фильм [«Семейный очаг» — прим. ред.], мне было двадцать два и казалось, будто корень всех несчастий в порочном общественном строе. Я верил, что достаточно в нем навести порядок, и большинство проблем уйдет само собой. Затем я обратился к эпической стороне жизни, исследовал ее слой за слоем — это можно видеть в «Аутсайдере». Если же говорить о моменте моего «переключения» на онтологию, то уже в 1982 году мы поняли, что совершенствовать общество и его институты недостаточно. Корень зла лежит гораздо глубже — прямо в основании универсума. Поэтому в «Осеннем альманахе» меня интересует мироздание как таковое.
«Мы поняли…». Кто это «мы»?
Мы — люди. (Улыбается.) Наша постоянная группа. Говорить о тандеме в моём случае недостаточно — нас гораздо больше.
К счастью, люди во всем мире разные.
Нас, например, нельзя представить без Агнеш Храницки. Она, хоть и называется монтажером, всегда присутствует на съемочной площадке. Ведь наш монтаж происходит прямо во время съемок, сразу в камере: именно в камере мы меняем планы, и так далее. Поэтому вклад Агнеш трудно переоценить.
Нельзя не упомянуть композитора Михая Вига. Мы с ним работаем, начиная с «Альманаха». Композиторы обычно не принимают участие в выборе съемочных мест, а Михай обязательно ездит с нами. И у него всегда очень дельные замечания, к которым я всегда прислушиваюсь. А вот, например, Ласло никогда не посещает съемки.
Картины, о которых мы говорим, — конечный результат деятельности всей группы, состоящей из людей, занятых каждый своим делом, но при этом духовно единых.

Упоминанием Михая Вига вы опередили мой вопрос о музыкальном сопровождении, действительно чрезвычайно важном для ваших картин.
Скажу больше: Виг пишет музыку к картине до того, как мы запускаемся в производство. Поэтому при запуске мы отталкиваемся в том числе и от нее. Как и место действия, музыка имеет свой неповторимый образ, который мне важно знать до начала съемок. Так что музыка действительно играет одну из самых главных ролей.
Сотрудничество с Краснахоркаи отразилось не только на сюжетах фильмов, но и на формировании вашего киноязыка. Многое, начиная с «Проклятия» [первой экранизации прозы Краснахоркаи — прим. ред.], поменялось даже чисто технически — например, ваша камера обрела под собой твёрдую почву.
Практически все составляющие моего стиля можно найти уже в дебютном «Семейном очаге». Скажем, длинные монологи в камеру, да и все остальное. Резкой смены киноязыка в «Проклятии» не было; просто в разное время мы по-разному расставляли акценты — какие-то элементы усиливали, другие уводили в тень.
Мы не забыты Богом, потому что Бога нет.
Начиная с «Проклятия», неизменным фоном ваших картин становится отчетливое гностическое убеждение: весь этот мир, как будто созданный коварным демиургом, с рождения погружён в проклятую материю и обречён на медленный, мучительный распад.
Я бы не стал говорить о гностицизме. Мы не способны верить ни в какого бога — ни в большого, ни в малого; ни в добрый Абсолют, ни в злого демиурга.
Вы не задумывались над тем, откуда в прозе Краснахоркаи и в вашем кинематографе такая сосредоточенность на тягостности, бренности, несовершенстве всего живого, плотского? Не из родной ли вам венгерской (или даже финно-угорской) культуры, для которой, как мне кажется, это тоже характерно?
Я не думал об этом. Понимаете, культура — это отражение чего-то, что всегда уже есть. Она вторична в том смысле, что представляет собой реакцию на нечто, уже существующее. Поэтому, когда человек творит, культура не особенно его интересует. Я реагирую на жизнь, не выбирая те или иные готовые ответы, а формулируя их сам. Поэтому мои (или наши) фильмы и есть моя (или наша) точка зрения на мир. Конечно, у другого режиссера она будет другая. Потому что, к счастью, люди во всем мире разные.

Но мало у кого найдешь такое сильное переживание богооставленности.
Мы не забыты Богом, потому что Бога нет.
А разве это не типично западный, постхристианский взгляд? И разве не его господство деморализовало современную цивилизацию и привело к тому неутешительному положению дел, которое отражено и в ваших картинах, и в ваших интервью?
Знаете, я думаю, что знаменитая реплика Ницше «Бог умер» принадлежит на самом деле не ему. Атеизм в самых разнообразных формах известен с древности. Западная культура деморализована и умирает не от того, что заразилась духом сомнения. Сомнения, как и многополярность, свойственны мышлению, и вместе с мыслью они только освежают культуру, продлевают ее жизнь.
Я убежден, что по своей природе человек не жесток.
Причина нашей постепенной гибели совсем в другом — в тотальном наступлении однообразия; в господстве одного-единственного полюса — системы денег. И это не только западная проблема. Посмотрите, что происходит в Китае или у вас в стране. Деньги стали единственным мерилом, что и приведет нас всех к уничтожению — к настоящему, буквальному уничтожению.
Непоследнюю роль в ваших картинах играют мотивы жестокости и жалости. Понятно, что они взаимообусловлены: лишь тот, кто чуток к проявлениям жестокости, способен проявить жалость, и наоборот. Но бывает и так, что люди совершают чрезвычайные жестокости по отношению к ближнему только ради того, что затем его пожалеть.
Я не люблю эти слова — жестокость, жалость. Человек жалеет, если наступил кому-то на ногу. Я бы говорил о сострадании или о его отсутствии. А сострадание — это ведь не просто жалость и не солидарность; это скорей эмпатия.
Есть люди, у которых она не очень развита.
Я убежден, что по своей природе человек не жесток. Но бывает таким, если его принуждают. Мы не бываем жестоки беспричинно. Нас принуждает к ней необходимость, после чего, наломав дров, мы жалеем скорее себя, чем жертву.

А в чем состоит необходимость, провоцирующая нас на жестокость?
В несоответствии способностей человека его реальным возможностям. Я думаю, что это самая большая трагедия жизни: ты знаешь, на что способен, но окружающая среда, состояние общества, многочисленные обстоятельства — все это и многое другое вместе — сокращает твои шансы… в некоторых случаях до нуля. Этот мотив несоответствия присутствует во всех моих картинах, от первой моей картины до последней.
Говоря о последней — вы полностью ей удовлетворены?
Я никогда не выпускал фильм, если мне в нем что-нибудь не нравилось. Я не иду ни на какие компромиссы; впрочем, меня о них и не просили. Если у вас сравнительно умный продюсер, который хочет фильм режиссера, с которым работает (а мой продюсер хочет получить фильм Белы Тарра), этот продюсер знает, что режиссера лучше оставить в покое — и тогда он получит то, что ему нужно. Если же продюсер начинает вмешиваться, это другая история… от которой никому не будет лучше — ни ему, ни мне.
Создавать нечто из ничего — главная радость любой человеческой деятельности.
А случалось, что со временем вам самому хотелось что-нибудь исправить в выпущенном фильме?
Представьте, что у человека пять детей, и все они разные, но все любимые. Зачем же что-то в них менять. Каждый мой фильм полностью отражает, каким тогда был мир и каким я его видел. Конечно, если бы мне было бы стыдно за какой-нибудь фрагмент, я бы поменял его. Но такого, к счастью, не случалось.
А бывает, что вы вспоминаете свои работы и думаете, не обязательно раскаиваясь: «Сейчас я бы снял по-другому».
Нет. Я не так смотрю фильмы. Я отношусь к ним как к документам, отразившим время и эпоху — а зачем менять документы?
Ваше «заявление об уходе» остается в силе?
Да. Как вы, наверное, знаете, я объявил о нем еще до того, как приступил к съемкам «Туринской лошади». Уже тогда я знал, что, если мы снимем ее такой, какой она была задумана, в ней будет все, от начала до конца. Снимать после нее бессмысленно.
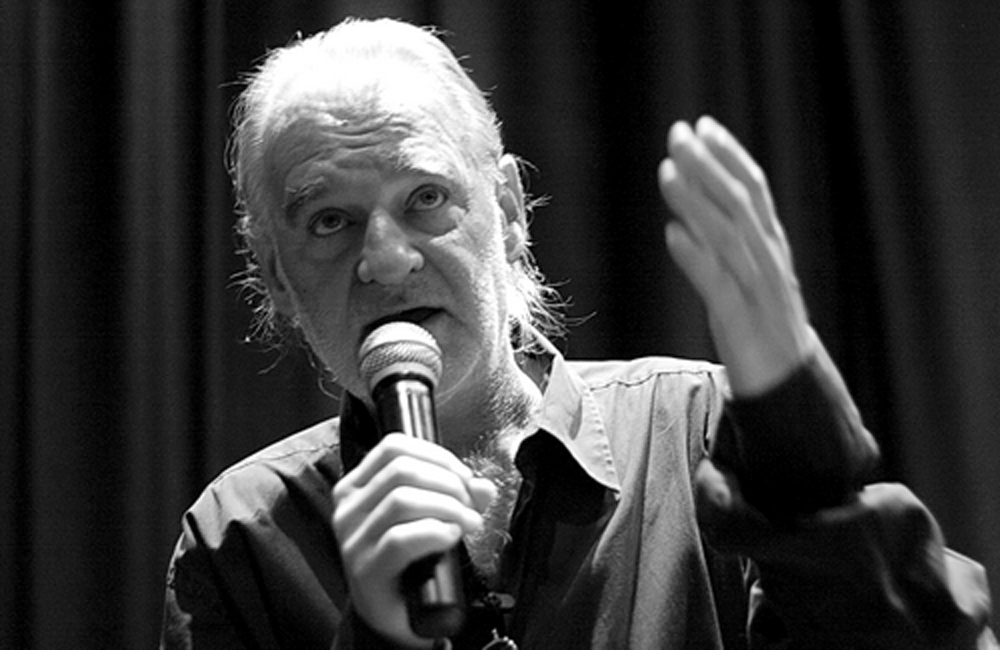
Среди причин, по которым вы оставляете режиссуру, вы называли также усталость и разочарование современным обществом и киноиндустрией.
Я не настолько наивен, чтобы лишь теперь разочароваться в обществе и в кино, которым занимался тридцать четыре года. Первое разочарование у человека наступает в возрасте пяти-шести лет, когда он начинает думать. Затем разочарований становится все меньше. Сталкиваясь с одними и теми же ситуациями снова и снова, ты привыкаешь к ним, возникает ощущение дежавю. Поэтому в том, что я больше не снимаю, разочарования нет.
Но ведь творчество, пусть даже его итогом становятся столь мрачные полотна, как у вас, — это всегда большая радость…
Несомненно. Создавать нечто из ничего — главная радость любой человеческой деятельности.
…поэтому добровольный отказ от неё, какими бы причинами он ни был обоснован, всегда несёт оттенок грусти и разочарования.
Но я ведь не покидаю кино полностью. У меня продюсерская компания в Будапеште, ей я и займусь. Вокруг немало авторов, которых индустрия кино не принимает, и которым я надеюсь помочь. Буду защищать тех режиссеров, для кого кино не бизнес, а седьмое искусство.
Теперь самые главные вопросы. В «Лошади» точно показано, что женщина гораздо менее чувствительна к температуре, чем мужчина. Этот гендерный контраст бросается в глаза, когда герои едят руками только что сварившуюся картошку.
(Улыбается.) Да, есть такое дело.
Вы почерпнули это наблюдение из жизни? Как появилась такая точная деталь?
Из жизни, конечно. Вы ведь тоже это заметили? В «Лошади» вообще все очень по-житейски.
Как самочувствие парнокопытной героини? Я слышал, она забеременела после съемок?
Героиня чувствует себя хорошо, готовится стать матерью. Уже на шестом месяце.
Отец, я надеюсь, известен?
О, да — прекрасный черный конь-красавец.
За помощь в проведении интервью редакция выражает благодарность Тамашу Кишбали.
Читайте также
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой
-
Кризис как условие







