География Фауста. Путеводитель воображения
Герой данного материала, кинорежиссер Илья Хржановский, в 2024 году был признан Минюстом РФ иностранным агентом. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
СЕАНС — 47/48
Проклятое Здесь!
И.В. Гете. Фауст (II часть, V акт)
Nemo sua sorte contentus est1.
После проклятия Фауста, обращенного к безобидному, но упорному местоимению «здесь», вопрос о «местах» Фауста — городах, дорогах, ландшафтах, топографии и топологии — беспомощно повисает в воздухе: Фауст не хочет быть рабом места! Это герой, утверждающий себя в движении, в бегстве от места, всегда ограничивающего человека исканий, каковым является Фауст. Вырастая из почвы, истории и культуры Германии, он является ее самоотрицанием и вместе с тем — сублимацией, подъемом на более высокий уровень. Фауст — не стаффажная фигура европейского пейзажа, не рекламная кукла на перекрестках средневековых городов, не бледная тень в пыльных углах библиотек… Фауст есть Фауст — неудовлетворенный собой и окружающим Искатель, снаряд, пущенный за горизонт, без цели, без надежды на возвращение, взор, алчущий нового и истинного в новом. И все-таки Фауст немыслим вне пространства, он не является воплощением чистого времени, времени субъекта. Фауст постоянно припадает к предмету, к конкретной ситуации, к человеку, с которым он связан не нейтральным relatio, а страстью, питаемой почвой и местностью. Даже небо, в которое он возносится у Гете, состоит из уступов и уровней, пещер и облачков. И само сердце мира — Мария — для Фауста и его автора — не абстракция вненаходимости, а индивидуальное Сердце, Лицо и Лоно. Отрицая привязанность, Фауст только и делает, что ввязывается во что-то и привязывается к кому-то. «Я сын земли. Отрады и кручины испытываю я на ней единой… И до иного света нет мне дела». Впрочем, Гете показал Фаусту и фаустианцам, что иной свет не только существует, но и населен теми, кто готов принять нас к себе.
1 Никто не доволен своей участью (лат.).
Фауст возможен и там, где его не было, но живет беспокойный дух его имени.

Существует сакральная география2; есть география священных мест религиозного поклонения; в истории активно создавалась и создается география мест памяти, связанных с победами и поражениями народов, с трагедиями и триумфами культуры. Идет борьба с неугодными местами памяти, одним местам противопоставляются другие.
2 См.: Зарифулин П. Русская сакральная география. СПб., М.: Лимбус Пресс, 2011.
География Фауста — это география литературного героя и его исторических прототипов, а также наследников, в той или иной мере воспроизводивших типологию Фауста в иных исторических обстоятельствах. Конечно, это мифопоэтическая география. Критиковать ее бесполезно — она требует приобщения к себе, проживания, совместной творческой работы путеводителя и паломника.
В географии Фауста мир на мгновение превращается в мир Фауста
География — это множественная наука, семья наук, отдельные слои которой накладываются друг на друга: существует физическая, политическая, экономическая, культурно-историческая и еще много других географий-картографий, охватывающих города, языки, народы, и, наконец, искусство.
Kunstgeographie — интереснейший и важнейший раздел истории искусств, освещающий распространение и расположение тех или иных художественных явлений (техник, жанров, стилей, школ), изучающий пути-дороги художественных обменов между разными регионами, миграцию художественных произведений, художников, и снова — форм и приемов, сюжетов и героев, образов и символов.
Строгие науки, требующие точности вопросов и ответов, стремятся не смешивать историю путешествий исторического Фауста или путешествий фаустовского сюжета по миру с историей и географией постановок «Фауста» в театре. Они четко отделяют исторического Фауста от литературного, зерна от плевел. Что касается нашей Faust-Geographie, то она целостна как миф и сновидение одержимого фаустовской темой человека, который является субъектом фаустовской географии, путешествия в пространстве Фауста и его спутников. В географии Фауста мир на мгновение превращается в мир Фауста, точнее, приобретает фаустовское измерение. Фауст — это один из тех великих навязчивых сюжетов, которые отбирают своих, прежде всего — своих жертв и адептов: писателей, художников, актеров, ученых и, самое главное, просто людей — читателей и зрителей, — которые возвращаются к Фаусту регулярно и никогда не жалеют об очередном запойном чтении, фантазировании и «фаустизировании». Они более или менее постоянно перечитывают фаустовские вещи, обращают внимание даже на скучнейший, провальный материал — фаустовские постановки, экранизации, иллюстрации, памятники, но, что еще важнее — на фаустовские ситуации, места и картины в реальной жизни. Фауст становится для них одним из тех языков культуры, которым они владеют и который способен творить их собственную жизнь. Этот гид, искуситель, комментатор как никто способен придать увлекательный смысл скучной географии, запутанной немецкой и отечественной истории, шизофреническому маршруту нашей личной жизни.
География Фауста распадается на несколько разделов. Первый является наиболее абстрактным. Это теоретическое учение о фаустовских ландшафтах и местах, где бы они ни находились. Здесь ставится вопрос о том, где der Faustbesessene — одержимый Фаустом — чует присутствие своего героя, его настроения и проблематику.
Вторая наука попроще, она описывает места жизни и деятельности реальных Фаустов, прототипов гетевской трагедии.
Третья изучает многочисленные места памяти инфернального спутника Фауста: где он появлялся, какие следы оставил и можно ли эмпирически почувствовать его присутствие там, где от него не осталось и следа.
Четвертая исследует те места, где случались постановки, переводы и прочие якобы географически случайные эвокации Фауста.
Пятая изучает места деятельности псевдо- и квазифаустов — всех этих русских, польских, испанских и индонезийских Фаустов: ученых, чудаков, грешников, авантюристов, а также целого ряда самозванцев.
Задачи Фауст-географии очень серьезны: показать неслучайность взаимосвязей фаустовских мест, а также их притягательность для разнообразных персонажей и явлений, связанных с сюжетом Фауста по аналогии.
Методологической основой нашей науки является учение о двойной контингенции, разработанное одним из последних псевдофаустов современности, — философом и социологом Никласом Луманом (1939–1991). Это совершенно непередаваемое в краткой форме эзотерическое учение посвящено случайным и неслучайным совпадениям фактов и параллелизмам феноменов, возможным и вероятностным совпадениям, возникающим исключительно в процессе «описания первой и второй степени, основанного на проведении различий между различаемым и средой, в которой конституируется и самовоспроизводится аутопойэтическая система». Такой системой и являются прототип, сюжет, герой и герои, авторы и реципиенты Фауста.
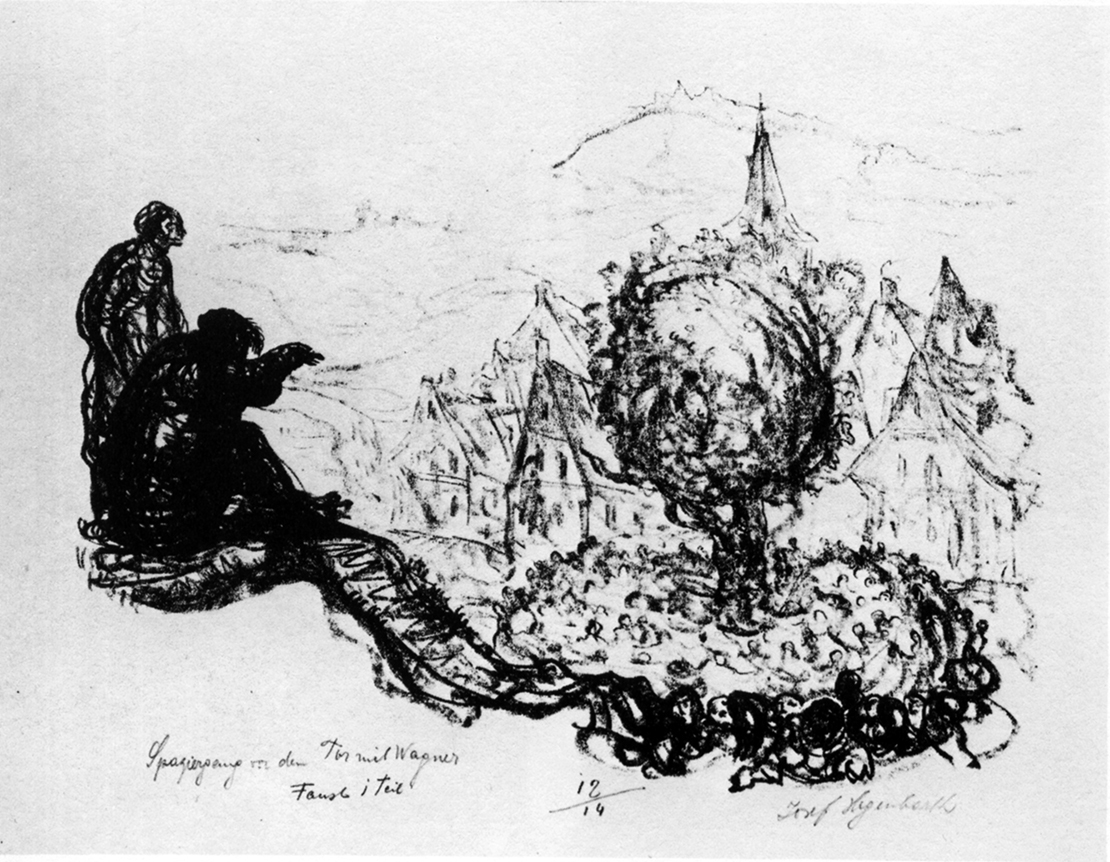
* * *
География складывается и постигается во времени. Фауст — это биография и история. История появления Фауста как исторической, потом символической, а затем литературной фигуры и история ее «распространения» по Европе, ее рецепции в мире. Самый непростой вопрос звучит так: что возникло раньше — символическое или историческое? Символ ли закрепляет исторический факт или факт становится значимым потому, что уже есть символ? Время предполагает линейную последовательность: сначала должно быть одно, потом другое; или наоборот. Пространство же позволяет мыслить одновременность. Поэтому география Фауста является одновременно и его историей, а фаустовская история — географией. Различие их состоит в том, что география дана в относительной одновременности и протяженности, тогда как история кажется данной в абсолютной временнóй изменчивости. Для каждого думающего о Фаусте встает вопрос о том, как соотносится этот герой с категориями пространства и времени: разбивает ли он их единство, выявляет ли он превосходящую значимость одной из них, признает ли ту или другую второстепенной?
Город и города — главные вехи в географии Фауста
Существует мнение, что Фауст есть воплощение времени, что именно он предвосхищает современную одержимость временем и как переживанием, и как проблемой научного и философского плана. Устремленный то в будущее, то в прошлое, Фауст всегда существует во временнóй перспективе, указывает на направление от себя. Фаустовская культура — культура времени, к тому же постоянно ускоряющегося. Но именно это ускорение порождает сжатие пространства. Расстояние от желания до его исполнения, от пункта до пункта стремительно сокращается. Время превращается в «карту возможностей», в обозримое, планируемое время. Будущее «должно» наступать мгновенно, здесь и сейчас. Мир становится подручным, обозримым. Но не кто иной, как Фауст, дает пример одновременного, противоречивого переживания достижимости и недостижимости цели, так остро чувствует разрыв между пространством и временем, из которых первое характеризуется навязчивостью, второе — непреодолимостью.
* * *
В «Фаусте» Гете (и не только Гете), пожалуй, отражается весь мир. Чего там только нет! Разве что некоторых современных технических средств и современных производственных пространств.
Попробуем перечислить некоторые важные топосы этого мира:
Театр. Подмостки, кулисы. Небо. Тесная комната с высокими готическими сводами. За городскими воротами. (ЦПКиО.) Кабак. Больница, морг. Собачий выгул. Кабинет, лаборатория. Дегустационный зал. Девичья светелка и кроватка. Сад и садовый домик. Лес, пещера. Цвингер, «клетка» с железными решетками в средневековых городских воротах. Собор. Открытая местность, поле. Тюрьма. Водопад. Императорский дворец. Кайзерпфальц. (Это может быть Вена, Прага, Мадрид и пр.) Тронный зал, рыцарский зал, темная галерея. Внутренний двор замка, окруженный разнообразными причудливыми строениями Средневековья. Высокогорье. Застывшие, остроконечные вершины скал. Поле сражения. Берег моря, дюны, каналы. Лесистые горы и водопады. У края могилы.
Если не всякий город, то любой немецкий город — город Фауста
Прочитав этот список, нельзя не заметить, что бóльшая часть мест находится в городе. Город и города — главные вехи в географии Фауста, хотя и не единственные. Деревня же отсутствует вообще. Там Фаусту делать нечего. Его устраивает только мировая власть. Пахотного поля нет, но есть поле сражения, театр военных действий. Все перечисленные места встречаются в самых разных частях обитаемого мира, и почти каждое из них вызывает у фаустианца особые чувства и воспоминания. Всюду он видит Фауста и его спутника. Мысль о Фаусте непременно возникает в связи с дикими, далекими, недоступными, неплодородными и опасными местностями. Фауст всегда на краю: моря, обрыва, могилы. Он там, где гремит слава стихиям:
Слава морю и волненью С разлитым на нем огнем, И воде, и озаренью, И свершившемуся в нем! Слава веяньям воздушным! Слава тайным глубинам! Слава, слава вездесущным Четырем стихиям — вам3!
3 Перевод К.А. Иванова.
Что касается города, то в его центре находятся дворец, театр и университет. Есть и рынок — он описывается в сцене карнавала (вторая часть трагедии Гете). Церковь располагается в стороне, в отдалении, хотя ее всегда хорошо видно и слышно. Немаловажны и такие места, как тюрьма и сумасшедший дом (в не столь далекие времена они почти не отличались друг от друга).
Если не всякий город, то любой немецкий город — город Фауста. Так же, как и любой по-настоящему университетский город и город театральный: например Вена, Париж, Лондон, Берлин и Венеция. Дух Фауста носится там, где наука и власть. Их тесная связь друг с другом стала вожделенным предметом всяческого анализирования после Мишеля Фуко. Но дух Фауста присутствует также в тех местах, где царит красота, где власть превращается в театр власти и нередко становится жертвой красоты.
Представленный ниже набросок географии Фауста включает в себя и географию фаустианца. О том, кто это, уже было сказано. Места обитания фаустианца — не обязательно фаустовские места. Скорее даже наоборот. Фаустианство развивается вопреки среде, выражается в бегстве от привычных фаустовских мест, бегстве к иным пределам и переживаниям. Фаустианцы не похожи на Фауста и живут не в средневековых городах, переполненных «просвещенцами» — этими отдаленными и упрощенными потомками Фауста. Фаустианцы, а также псевдофаусты обитают в самых разных местах, но чаще всего в городах, которые не смогли состояться в качестве фаустовских вследствие преобладания в них бытия над становлением и красоты над характером. Фаустианца влечет Германия. Правда, встреча с реальной страной часто разочаровывает его. Он жаждет таких переживаний, которые современная Германия едва ли может ему дать. Он устремляется на поиски «Германии» в Германии и, как и Фауст, с помощью вполне немецкого черта со странной полувосточной фамилией открывает для себя весь мир. Мир борьбы и трагедии, одиночества и восторга, единства и непреодолимых противоречий.
Читатель этих заметок может быть фраппирован, с одной стороны, их «субъективизмом», а с другой стороны, тем, что автор воспроизводит так называемые клише. На это необходимо заметить, что данное сочинение не имеет никакого отношения ни к наукам, ни к просвещению. Это результат внутренней работы личности, представляющей читателям материал для возможных заключений по ее поводу — научных или ненаучных. Клише осознаются нами как ценности мифологического порядка. Сам Фауст изначально есть клише. Его многочисленные интерпретации порождали новые клише. Их можно, конечно, деконструировать, но лишь впадая в другие антифаустовские антиклише. В Фауст-географии Фауст сохраняется и переживается, а не изгоняется и не заменяется на квази-Фауста. География Фауста — это ритуалистика фаустовских переживаний, основой которой является тавтология: Фауст есть всегда Фауст.
ГЕРМАНИЯ
Книтлинген
Книтлинген — главный город Фауста в ФРГ, потому что здесь, в доме, где в 1480 году родился Иоганн Георг Фауст, находится Музей Фауста, занимающий четыре этажа. (Впрочем, согласно другим версиям, Фауст появился на свет в Хельмштадте или в Роде, в 1481 или 1466 году соответственно.) Городок расположен незаметно, среди пологих холмов, близ большого, но безликого города Пфорцхейм, в войну полностью разрушенного американской авиацией; в двух шагах от знаменитого монастыря Маульбронн (о нем ниже). В Книтлингене может побывать только истинный фаустианец, так как добираться туда приходится с пересадками и никаких художественных достопримечательностей там нет. Это обычный южно-немецкий городок: рыночная площадь, маленький средневековый замок, перестроенный в XVIII веке, неказистая приходская церковь, школа, аптека, кладбище, ручей, пара фахверковых сараев, кондитерская, магазины.
В Книтлингене Фауст является нам не как сверхчеловек и удивительный гений, а как немецкая обыденность
NB! Книтлинген — место изобретения и главное место производства губных гармоник.
В музее и архиве Фауста собирают все о фаустах и фаустианцах: от сведений о средневековых шарлатанах до марионеток, от старинной мебели вроде масонского шкафа в форме звезды Давида до обложек грампластинок с фаустовскими мотивами. Плакаты и театральные программки, игрушки и даже напечатанные на желтой бумаге авторефераты диссертаций по вопросам фаустоведения на кабардинском языке. В Книтлингене Фауст является нам не как сверхчеловек и удивительный гений, а как немецкая обыденность, в которой Он само собой разумеется.

Маульбронн
Монастырь Маульбронн находится совсем рядом с Книтлингеном. Он лежит в лощине, по которой протекает ручей. Вокруг склоны виноградников и светлые буковые леса. Это красивейший готический монастырь, прославленный не только архитектурой, но и учениками знаменитой протестантской школы: с эпохи Реформации здесь работает школа-интернат, в которой учились такие титаны, как Гегель, Шеллинг и Гельдерлин, а в XX веке — писатель Германн Гессе. В монастыре сохранилась «башня Фауста», где якобы находилась кухня алхимика. Пребывание доктора Фауста в Маульбронне зафиксировано документально.

Рода (сегодня Штадтрода)
Город в Тюрингии, близ Веймара. Дом, в котором, по некоторым сведениям, родился доктор Фауст, в 1896 году был продан, разобран и перевезен в Чикаго. Там он демонстрировался на Всемирной выставке в павильоне Germany. Что с ним произошло потом, никто не знает. Рядом с городком Рода находился цистерцианский монастырь, который был закрыт в период Реформации, в 1531 году. От него остались одни руины, впрочем, вполне романтические. В XX веке здесь проводились массовые акции по ликвидации душевнобольных под руководством доктора Вернера Хайде, известного как Фриц Заваде (1902–1964). Доктор Заваде был крупным специалистом, профессором по психиатрии и неврологии в университете Вюрцбурга, руководителем программы Euthanasie. Он был куратором чудовищной акции T4. В 1945 году, не дождавшись начала процесса, Хайде-Заваде лишил себя жизни в тюрьме Бутцбах. Вот что он написал в прощальном письме: «Перед Богом я предстану в полном присутствии духа — я готов подчиниться Его суду. Я не хотел никакого зла, насколько я как человек способен оценить содеянное. Пусть Он решает». Хайде обосновывает самоубийство через Selbstachtung und Protest (самоуважение и протест). В 1965 году известнейший современный художник Герхард Рихтер изобразил арест Хайде на одной из своих картин. Почти сорок лет она находилась в закрытом для публики частном собрании. В 2006 году полотно было выставлено на аукционе Christie’s в Нью-Йорке, где ее приобрел за 2 миллиона 816 тысяч долларов один из самых «жирных» коллекционеров нашего времени — Ларри Гагосян (первоначальная оценка картины доходила до трех миллионов). Такое вот незнаменитое местечко эта Рода.
Штауфен-им-Брайсгау
Исторический Фауст закончил свои дни в этом городе, недалеко от Фрейбурга, около 1541 года. Сохранился дом, комната и надпись на фасаде, повествующая о том, что дьявол вошел к Фаусту в комнату, о чем-то говорил с ним и затем разметал старика так, что забрызгал его мозгами и кровью стены, пол и потолок. В этом доме — единственной достопримечательности Штауфена — сегодня находится премиленькая гостиница. Самый дорогой номер, естественно, тот самый — с невидимыми следами пребывания Фауста и Мефистофеля. В 2007 году в Штауфене начали бурить скважины, чтобы обеспечить город новым источником тепла: неглубоко под поверхностью земли здесь расположены горячие воды. То ли что-то было сделано неправильно, то ли вода не захотела служить мелким людским надобностям, но на значительной территории города началось заметное вспучивание земли, достигшее тридцати сантиметров. Дома, в том числе новые и только что отреставрированные, пошли трещинами, кое-где на поверхность земли выбились струйки пара. В отчаянии правительство собирает деньги на борьбу с бедствием, природа которого не ясна.
Штауфен связан с немецкой литературой, с поэзией. Здесь жил, умер и был похоронен замечательный поэт XX века Эрхарт Кестнер (1904–1974). Поэт не самый известный: творчество его до сих пор замалчивается, так как он не был модернистом и не принадлежал к сопротивленцам в годы национал-социализма. Кестнер — автор утонченной поэтической книги-путеводителя по классической Греции, написанной в 30-е годы. В ней он если и не вступает в соревнование с «Итальянским путешествием» Гете, то приближается к музыке образов гетевской Аркадии. Процитируем его высказывания о времени, мгновении и детстве:
У ребенка царственное отношение ко времени, а именно, нет никакого, особенно когда он играет. Вот что вызывает у нас восхищение детством — отказ от времени, парадиз. В конце концов, жизнь есть только сумма тех немногих часов, в направлении к которым идет жизнь. Они действительно есть; все остальное было лишь затянувшимся ожиданием. Восторг любви — это высадка с корабля времени.
Эрфурт
Фауст был в Эрфурте… Но не был в Иене, Геттингене, Магдебурге. Фауст был в Эрфурте. Эрфурт (первое упоминание датируется 742 годом) — город древний, славный, университетский. Старый университет существовал с 1392 по 1816 год (он был третий по старшинству после Гейдельберга (1386) и Кельна (1388). В 1994-м здесь основали новый университет.
Фауст получил разрешение от Эрфуртского университета читать лекции о Гомере, во время которых он поражал слушателей, показывая им тени героев Илиады и Одиссеи, что было сочтено за явное доказательство знакомства его с дьяволом. Опасаясь за юношество, подвергавшееся на лекциях Фауста таким дьявольским наваждениям, городской совет отправил для увещания чародея францисканского проповедника, доктора Клинге. Увещание не подействовало, и Фауст был изгнан из Эрфурта.
Эрфурт знаменит своим августинским монастырем, в котором созревал для Реформации Мартин Лютер. Другой монастырь, доминиканский, около 1300 года был местом деятельности величайшего немецкого мистика Майстера Экхарта. Сегодня на месте монастыря Предигеркирхе. На Михаэлисштрассе до сих пор находится синагога XI века — самая древняя в Европе. Ее заново открыли в 1992 году, а до этого считали просто сараем. Сегодня это музей, где можно увидеть недавно найденное «Еврейское сокровище»: золото и серебро в двадцать восемь килограммов — клад, спрятанный во время погрома перед началом эпидемии чумы в середине XIV века.
С 1802 года Эрфурт входил в состав Пруссии. Это наложило отпечаток на архитектуру города. По-настоящему красив только центр Эрфурта с его готическими соборами. В Эрфурте находится самый большой средневековый колокол Европы «Глориоза». «Моя славная хвала, — гласит надпись на колоколе, — воспевает патронов, я отвожу молнии и злых духов, звоню к богослужению, которое возвещается песнопениями народа в соборе. Отлил меня Герхардус Воу из Кампена. В лето Господне 1497-е». Колокол имеет длительность звучания в шесть минут и слышен за восемьдесят километров. Сегодня Эрфурт — крупнейший в Европе производитель кондомов: фабрики по их производству работают с 1929 года. В 1864-м в Эрфурте родился великий социолог Макс Вебер, а четыре года спустя — его не менее умный брат, философ и историк Альфред Вебер.
Удивительно, но война не затронула Эрфурт, «сердце Германии», как называют его местные жители. С 1806 по 1814 год Эрфурт был особой императорской провинцией, то есть подчинялся непосредственно Наполеону Бонапарту. Это было в часе езды от Веймара, где жил Гете. В 1808 году в Эрфурте состоялось свидание Наполеона и русского царя Александра: гремели балы, банкеты, спектакли. Гете пожаловал на свидание с великим французом и получил крест ордена Почетного легиона; обсуждали «Вертера». В том же самом месте в 1891-м социал-демократами была принята Эрфуртская программа. Председательствовал Август Бебель; постановили от пролетарской революции пока воздержаться: в рядах революционеров произошел раскол. Заседания проходили в Кайзерзале, где ранее выступали Паганини, Лист и другие. В 1970 году здесь впервые произошла встреча первых лиц двух немецких государств: канцлера ФРГ Вилли Брандта и премьер-министра ГДР Вилли Штофа. Сегодня одно из мест в городском совете принадлежит депутату от Национально-демократической партии Германии, выступающему — о ужас! — за урегулирование национальной политики. Герб города Эрфурта представляет собой белое колесо на красном фоне с шестью спицами — эмблема неясного происхождения и значения: то ли знак Христа, то ли римские колесницы, то ли солнце. В 1921–1923 годы в городском Ангер-музеуме появилась монументальная роспись «Ступени жизни». Ее выполнил талантливый художник-экспрессионист Эрих Хекель. Она сохранилась до наших дней. Ее темы: Мир женщины — Воспитание — Дружба — Мир мужчины — Молодые покойники — Печаль — Разлука — Привязанность. В те же годы в Эрфурте преуспевала фирма J. A. Topf und Söhne, которая производила печи для крематориев, а позднее и для концлагерей — Бухенвальда, Дахау, Освенцима, Могилева. Заброшенные цеха фабрики были в 2001 году заняты левыми активистами, которые похитили любимую в народе глупую скульптуру китчево-юмористического персонажа Бернта Брота (Бориса Буханкина), — символ цивилизованной тоски и особой эрфуртской скуки.

Гейдельберг
Гейдельберг Фауста — это прежде всего университет, основанный в 1385 году, — первый в Германии. На хорах университетской церкви Святого Духа находилась «Библиотека Палатина», вошедшая позднее в состав Ватиканской библиотеки. Эта библиотека славилась как «мать всех библиотек» и… гнездо ересей, так как в ее составе имелись многочисленные гностические, оккультные, еврейские, арабские, алхимические и астрологические сочинения. В XIX веке гейдельбергский университет считался главным образом школой для юристов, хотя его вклад в развитие иных наук огромен. Для фаустианца важно, что в конце столетия здесь работал известный историк искусства Генри Тоде. Будучи зятем Рихарда Вагнера, Тоде придерживался экстремальных консервативно-романтических, националистических взглядов: объявил войну пропаганде в Германии ценностей французского натурализма и импрессионизма. Утратив во время Первой мировой войны свою виллу (вилла Карньякко на Гардском озере), библиотеку, собственные неопубликованные рукописи и художественные коллекции, Тоде покончил с жизнью в Копенгагене в 1920 году. В бытность профессором в Гейдельберге Тоде оказал значительное влияние на целый круг талантливых молодых людей, настроенных «неоидеалистически». Среди них такие выдающиеся гетеведы, как Фридрих Гундольф и Рихард Бенц. Учеником Гундольфа едва не стал доктор Геббельс. В 1935-м он держал речь о культуре на открытии Тинга — расположенной на горе — над городом и замком — площадки для неоязыческих церемоний. На долгое время за Гейдельбергом закрепилась слава самого «коричневого» университета. Именно здесь — не раз в истории — разгорался вечный спор о том, яв- ляется ли наука, в том числе математика и естествознание, интернациональной. В Гейдельберге работал выдающийся физик XX века Филипп фон Ленард, нобелевский лауреат 1905 года. Он был создателем идеи «немецкой физики».
Будут недоумевать: «Немецкая физика»? Но я мог бы сказать больше — даже арийская физика или физика нордического человека как физика исследователей реальности, физика искателей истины, физика тех, кто основал естествознание. Мне возразят: наука является и навсегда останется интернациональной! Но в основе такой позиции заложена обыкновенная ошибка. На самом деле наука, как и все, что производит человек, обусловлена в том числе расой и наследственностью. Естествознание ни у одного народа не появлялось вне опоры на питательную почву уже заранее данных арийских человеческих качеств… Научная работа совершается в тесном диалоге с природными процессами. Не искаженный «образованием» немецкий народный дух ищет глубины, непротиворечивых оснований мышления в согласии с природой, ищет безупречного постижения мирового целого…
по всему своему ученому складу Фауст не является теоретиком
Ленард полагал, что физика должна оставаться прежде всего экспериментальной наукой, «основанной на твердой почве постулатов классической физики». Ее объяснения должны быть наглядными, прозрачными. В основу такой физики следует положить «постулат механической постижимости и описания процессов», «непосредственное переживание природы», «опыт как основу для построения теорий», «понятия силы и энергии в качестве основных», а также понятие механизма, которое основывается на «применении математически формулируемых, то есть количественно оцениваемых представлений, позволяющих достичь наглядного соответствия действительности в мыслительной форме пространства и времени, которая делает познание наглядным для нас».
В 1940 году между «немецкими» и «современными»
физиками-теоретиками было заключено соглашение. Оно сводилось к нескольким пунктам, с которыми были согласны обе стороны:
1. Теоретическая физика является неотъемлемой частью физики.
2. Специальная теория относительности является неотъемлемой частью физики, однако требует дальнейших проверок.
3. Четырехмерное представление природных процессов является математической абстракцией и не является моделью пространства-времени в классическом понимании.
4. Квантовая механика представляет собой единственную возможность описания атомных процессов, тем не менее требуется более глубокое понимание эффектов, стоящих за формализмом данного описания.
Обратим внимание на то, что по всему своему ученому складу Фауст не является теоретиком. Он работает с вещами и с людьми, ищет конкретного и жизненно-полезного знания. Умозрение, описание, теоретизирование не влекут его. Он хочет познавать не на расстоянии, а в плотном взаимодействии с предметом, хочет овладевать, познавая, и познавая, действовать.
Написано: «В начале было Слово». Вот я и стал на первом же шагу. Ну, кто бы мне вперед помог пуститься снова? Так высоко ценить я слово не могу. И если разум мой на правильном пути, Я должен иначе совсем перевести: «В начале Мысль была». Над первою строкой Подумай долее и не води рукой Пера проворного. Подумай наперед: Ну разве мысль зачин всему дает И все так мощно сотворила? Итак, я напишу: «Была в начале Сила»! Но что-то в этот миг еще влечет меня, Чтоб этим не довольствовался я. Мне помогает Дух. И мысль мне ясной стала, Что «Было Действие от самого начала».

Бад-Кройцнах
Бад Кройцнах, известный минеральными водами и радоновыми источниками, находится в рейнском Пфальце, между Майнцем и Триром. Здесь Карл Маркс женился на Женни фон Вестфален. В 1507 году доктор Фауст по протекции «последнего рыцаря» Франца фон Зиккингена занял место гимназического учителя в этом городке. В письме «ведьмолога» (Hexentheoretiker) Иоанна Тритемия к астрологу Иоанну Фирдунгу (состоял при дворе в Гейдельберге) Фауст нелестно характеризуется как шарлатан и «дурак», которого не стоит принимать всерьез. По свидетельству Тритемия, в Бад-Кройцнахе доктор Фауст безобразничал с мальчишками в купальнях. Домик Фауста стоит; купальни работают: крупнейший центр «спа» в этом районе Германии.
В истории Бад Кройцнах известен также как место ставки верховного главнокомандующего и место важных политических встреч. В годы Первой мировой войны здесь находилась ставка кайзера, в 1939–1940-м, во время похода на Париж, — ставка Гитлера. В 1917-м Вильгельм II и генерал Людендорф принимали в Бад-Кройцнахе Кемаля Ататюрка, разрабатывали план современной Турции и, таким образом, закладывали противоречивые основы немецко-турецкого, западно-восточного сближения. В 1958-м здесь заседали Де Голль и Аденауер, обсуждали болезненные вопросы международных отношений и размышляли о тогда еще далеком европейском единстве.
Бамберг
Древний франконский Бамберг очень живописен, причудлив и мрачен. Это место «проживания» самой знаменитой немецкой скульптуры — «Бамбергского всадника» (XII век). Кого именно она изображает, точно неизвестно (есть много теорий), но очевидно, что в ней воплощен образ христианского рыцаря. Некоторые историки полагают, что это царь царей, апокалиптический Христос-Мессия. Новое время стало видеть в бамбергском всаднике то, что ему близко: смелого, одинокого, тревожного, вечно неудовлетворенного Искателя, устремившего взор к горизонту.
В истории Бамберг остался как центр ожесточенных преследований ведьм на протяжении эпох Средневековья, Ренессанса и барокко. Особенно ужасными были гонения с 1609 по 1622 год, когда епископ Иоанн Готфрид фон Ашхаузен казнил триста ведьм, в то время как в городе проживало всего-то не более шести тысяч горожан! Преследования продолжил епископ Иоанн Георг II Фукс фон Дорнхейм, казнивший еще шестьсот ведьм. Для несчастных женщин была построена специальная тюрьма, применялись самые изощренные пытки. Жителей, которые возмущались этим религиозным экстремизмом, тут же обвиняли в половых сношениях с демонами, в посещении черной мессы, ночных скачках на собаках — и тоже казнили.
Бамберг постоянно находится под угрозой наводнения
Храмы центральной части города образуют в пространстве крест. В Бамберге все находится под знаком креста. В то же время город всегда был полон евреев, особенно много было здесь врачей и аптекарей. Сегодня в центре города, который славится своими катакомбами, имеется подземный мемориал еврейской семье, пострадавшей от холокоста. В середине XIX века в Бамберге родился великий микробиолог Август фон Вассерман, сын баварского придворного банкира. Реакция Вассермана долгое время была единственным средством диагностики сифилиса. Занимался Вассерманн и менингококами, опасными бактериями, живущими в глотке и способными проникать в мозг.
Целых десять лет профессором Бамбергского университета был знаменитый «фээргэшный» социолог Ульрих Бек, разрабатывавший «социологию общества риска», в которое, по его мнению, превратилось современное общество под влиянием технического прогресса и безответственности бизнеса и политики. В то же время Бек разработал интересную теорию «собственной жизни». Он считает, что сегодня каждый американец и европеец — сам кузнец своего счастья: он строит себе дом-кокон, обеспечивает себя работой и разнообразными удовольствиями. Такой вот антифаустовский образ — довольной собой частной жизни.
Но Бамберг видел и других философов. Здесь, в виду стрельчатых окон и готических аркбутанов грандиозного хора церкви Святой Марии, вышло из печати первое издание «Феноменологии духа» (1808) Гегеля, одного из самых трудных по мысли и языку произведений философской литературы. Город и его атмосфера сыграли важную роль в становлении немецкого романтизма. Под впечатлением от поездки в средневековый Бамберг юный Вакенродер начал писать «Сердечные излияния монаха-отшельника, любителя искусств». В городе есть два памятника Э.Т. А. Гофману: один ему с котом Муром, другой — говорящему псу Берганца. Писатель прожил в Бамберге с 1808 по 1814 год. Он работал в театре как композитор, декоратор, драматург. Здесь им был создан образ капельмейстера Крейслера.
Бамберг постоянно находится под угрозой наводнения. Река Регниц, мутная и быстрая, поднялась особенно высоко в июле 1342 года, в день Святой Магдалины, и унесла с собой каменный мост. Последнее катастрофическое наводнение было в 2004-м.
В XVI веке в Бамберге был замечен «исторический» доктор Фауст. Но фаустианец отправляется сюда не поэтому. Гораздо важнее всадник, ведьмы, кресты и «Феноменология».

Ингольштадт
Посетил доктор Фауст и город Ингольштадт. Он находится в Баварии, которая в целом не очень-то «расположена» к Фаусту.
В 1472-м здесь был основан первый баварский университет, он имел папские привилегии и способствовал увеличению населения города как минимум на шестьсот человек (большая по тем временам цифра). Для обучения студентов были созданы педагогический институт (1520) и иезуитская коллегия (1549). Город был оплотом контрреформации. Здесь работал профессор Иоганн Эк, наиболее ожесточенный и серьезный критик Лютера. В Ингольштадте был напечатан трактат Эка, посвященный защите и обоснованию верховенства папы римского De primatu Petri adversus Ludderum. Ингольштадт — место основания ордена иллюминатов, членом которого был Гете под именем Абариса Пифагорейца. Свидетельством этого является запись в десятом томе актов иллюминатов, где находится заявление Гете о вступлении в орден. Этот переплетенный в черную кожу фолиант с золотым тиснением Reverse und Lebensläufe («Обращения и биографии») по сей день находится в собственности России. В конспирологии известен так называемый Шведский сундук, в котором хранился архив ордена. До 1991 года местонахождение десятого тома оставалось неизвестным. Россия отказывается передать его Германии на том основании, что заключенные в нем сведения по сей день имеют слишком большое значение для истории и политики нашего государства.
Иллюминатам были свойственны переименования, псевдонимы и игра с античными ассоциациями. Мюнхен они называли Афинами (может быть, отсюда произошло знаменитое наименование Мюнхена — Афины на Изаре), Тироль считали Пелопоннесом, Франкфурт называли Эдессой, а Ингольштадт — Элевсином, то есть городом мистерий. Иллюминаты имели тайный календарь, пользовались персидскими названиями для месяцев и свое летосчисление вели от 632 года. Членами ордена помимо Гете были Гердер и Книгге, но другие представители позднего просвещения, такие как Шиллер, Кант, Лессинг и Лафатер, великий физиогномист и протестантский мистик, сторонились иллюминатов. Прусский писатель Фридрих Николаи, которого Гете вывел в «Фаусте» в образе Проктофантасмиста, иначе — фантаста заднепроходного отверстия, довольно быстро покинул орден, разочарованной косностью его структур.

Нюрнберг
Нюрнберг — один из самых знаменитых городов Германии. Это город Дюрера, немецкого Ренессанса, гуманизма. Здесь была сделана гравюра «Рыцарь, Смерть и дьявол», написаны монументальные «Четыре апостола» Дюрера. Если где и искать физиономию доктора Фауста, то среди рисунков Дюрера, на картинах нюрнбергских художников. Исторический Фауст «засветился» в Нюрнберге снова по «голубой» части. Подозревают теперь и Дюрера, причем специалисты считают, что доказательства неопровержимы.
Нюрнберг воплощает блестящую, ничтожную и трагическую немецкую судьбу как никакой другой город. Фауст здесь у себя дома. Он повсюду — в каждой складке камня и в самой мощной натуре франконца, объединяющей брутальность и честность, языческое здоровье и самые разные формы идеализма.
Деятельный всегда бессовестен; никто не имеет совести, кроме созерцающего
С 1848 году Нюрнберг стал центром свободомыслия, там появилось «Гуманистическое объединение Германии». Членом предшествующей «Свободно-религиозной общины» был философ-атеист Людвиг Фейербах. Гуманисты выступали за строительство крематория, за школу без уроков религии, против католического культа реликвий, за парламентаризм, полное отделение Церкви от государства. После 1933 года многочисленные сторонники свободной религиозности примкнули к «Немецкому движению за веру» и стали неоязычниками.
Нюрнберг не только город атеиста Фейербаха, но и известного художника амазонок, титанов и платоновского симпосиума Ансельма Фейербаха, невезучего, непризнанного и одинокого шизофреника. Философ приходился ему дядей. Как никто другой Фейербах воплощал в XIX веке болезненную немецкую страсть к античности, тоску по красоте. Вечно неудовлетворенный, художник бывал не раз обманут своей Еленой. В Нюрнберге жил также Каспар Хаузер, загадочный ребенок, историческая личность и герой известного романа Я. Вассермана, тихий, странный, неразвитый, одинокий, — полная противоположность Фаусту.
Политически Нюрнберг ассоциируется сегодня с расовыми законами 1935 года и с Нюрнбергским процессом. Иначе говоря, с решительнейшими действиями юстиции. Однако Нюрнберг — это также и сцена одного из последних больших сражений войны. В январе 1945 года город был на две трети уничтожен американской авиацией, а 12 апреля взят после ожесточенного сопротивления вермахта, СС и гитлерюгенда. Парад победы был омрачен только смертью Рузвельта.
Нюрнберг посещает каждый фаустианец. Но застает его не в том виде, к какому готовится внутренне. Реальный Нюрнберг — город сувенирных лавок — оказывается еще более трагичным и еще более пошлым: карикатурнополитическим уроком всей Европе. И может быть, только мрачным ноябрьским вечером, поднявшись на валы императорского замка или прошагав два километра по гранитной мостовой необъятной Ауфмаршштрассе, начинаешь догадываться, какую ношу взвалил на себя Фауст и насколько непостижимо божественное прощение, нисходящее только на того, в чьих помыслах действительно содержалась доля истины.
Среди людей истина не может не быть предметом раздора, и каждый, кто совершает поступок, обнаруживает двойственность действия как такового. «Деятельный всегда бессовестен; никто не имеет совести, кроме созерцающего», — заметил как-то Гете.
Не абсурдна, а жизненна и показательна в этом смысле история с фонтаном «Нептун», стоявшим на главном рынке в центре старого города. Фонтан был создан в середине XVII века, но по финансовым причинам не был установлен. В 1797-м его продали русскому императору Павлу I, который приказал украсить им Верхний сад в Петергофе, где он по сей день и находится. В конце XIX века в связи с мощным экономическим подъемом эпохи Грюндерства в среде культурных горожан возникла идея сделать бронзовую копию фонтана и установить ее на рынке. Сыскался и меценат. Им стал крупный торговец хмелем Людвиг Риттер фон Гернгросс. Активный участник культурной жизни Нюрнберга, он происходил из старинной ортодоксальной еврейской семьи, однако к религии был равнодушен. Этот человек был одним из столпов «Утреннего общества», или «Общества рановстающих господ», в которое входил и небезызвестный в Петербурге предприниматель Шукерт («Сименс-Шукерт» — дореволюционный владелец «Электросилы»). Члены клуба собирались еще затемно, в 6:30 утра, к утреннему кофею. Их девизом были слова: «Каждый может делать то, что он хочет». В 1902 году фонтан был создан. В 20-х годах в националистически настроенных и критикующих капитализм кругах фонтан стали называть Юденбрунен. Вскоре фонтан стал «мешать» проведению массовых партийных манифестаций. В 1934 году по личному указанию Гитлера он был перенесен на другую площадь и с тех пор располагался прямо под окнами дома партийного комитета НСДАП. В 1942 году из Петергофа прибыл оригинал XVII века. В 1945-м он был возвращен в СССР. Копия, или «еврейский фонтан», осталась на старом месте. В 2009 году сформировалось городское общественное движение за возвращение этого фонтана на главный рынок. Население раскололось в связи с «различным пониманием ценности исторической подлинности и философии мест памяти», так что пока фонтан остается на своем месте и известен как Hundenapf («собачья миска»), что воспринимается некоторыми гражданами с обидой.
Приехав в Нюрнберг, можно было бы подумать, что здесь царит вовсе не Фауст, а его «племянник» Ойленшпигель, всегда готовый дать туристам необходимые разъяснения, если бы только за всей этой суетой (vanitas) не стояли жизни людей, как заслуживших высшую кару, так и невинно погибших.

Мюнстер
Исторический Фауст побывал в Мюнстере в Вестфалии. В этом католическом городе в 1534 году были жестоко казнены анабаптисты. Железные клетки, подвешенные к башне церкви Святого Ламберта, куда были посажены и обречены на голодную смерть еретики, до сих пор на месте.
Воображаемый Фауст мог бы любить здесь Гретхен вечно, сначала как студентку, потом как мать или даже монашку
Мюнстер, особенно его главная улица-площадь с аркадами (Принципальмаркт), похож на театральную декорацию к «Фаусту» XIX века. Там и сям мелькает платочек Гретхен, Марта в спешке семенит на рынок, ковыляет в церковь бабушка юной студентки. Город наводнен велосипедами, монахами и голубями.
В 1648 году после окончания ужасной Тридцатилетней войны в Мюнстере был заключен Вестфальский мирный договор, некоторые принципы которого сохраняют свою значимость и по сей день. Так возникла современная Европа. Важную роль сыграл Мюнстер и в 1990-м, во время переговоров Геншера и Шеварнадзе о возможностях объединения Германии.
Фаустианец чувствует себя в Мюнстере на своем месте. Этот тихий город волею судеб не один раз становился центром значительнейших событий европейской истории, событий с далеко идущими и неоднозначными последствиями. Мюнстер распят между небом и землей, между жизнью частной и созерцательной и жизнью публично-политической, государственной. Воображаемый Фауст мог бы любить здесь Гретхен вечно, сначала как студентку, потом как мать или даже монашку.
В конце XVIII века в Мюнстере сложился интеллектуально-художественный кружок в салоне религиозно настроенной княгини Амалии Голицыной. В центре этого «мюнстерского круга» стоял великий интуитивный ум XVIII века — «северный маг» Иоганн Георг Гаманн. В 1792 году в доме Голицыной гостил Гете.
Мюнстер — кроме всего прочего еще и ведущий европейский центр био- и нанотехнологий — это город Святой Терезы Бенедикты Креста, известной в миру как Эдит Штайн (1891–1942, уничтожена в Освенциме). Эта святая XX века наряду со Святой Екатериной Сиенской и Святой Биргиттой Шведской является покровительницей Европы. Эдит Штайн — не Гретхен. Ее пример показывает, какой путь смогла пройти женщина в Новое время: от ортодокальной еврейской семьи — к атеизму, в класс профессора-феноменолога Эдмунда Гуссерля, оттуда — в монастырь Бойрон, к чтению жизнеописания Святой Терезы Авильской и религиозному озарению — и далее на мученичество в концентрационный лагерь.
Виттенберг
Фауст учился в Виттенберге, университете, который первым в Германии был основан не Церковью, а светской властью. А где же еще прикажете ему учиться, как не в этом странном месте, где студентом был также Гамлет, принц Датский, на дом которого вам немедленно укажут?
В Фаусте нет догматизма и самодовольства, у него нет брюшка и постного выражения на лице
В Виттенберге на Коллегиенштрассе имеется мемориальная доска, согласно которой доктор Фауст родился в 1480-м, умер в 1540-м, а в Виттенберге жил с 1525 по 1532 год. Очень долго!
Фаустианец стремится в этот город одной улицы, одного мифа, одной тональности, одной краски, в город серых фасадов, маленьких и скорее безликих, чем живописных домиков, лежащий среди бледных лугов в пойме Эльбы. Однако, хотя Виттенберг невелик и никогда не был большим городом, это протестантский Рим! Здесь каждый камень говорит о людях, выдающихся по силе веры, учености и характера. Список людей, биографически, исторически связанных с Виттенбергом, поражает. Количество посетителей Виттенберга не уменьшается и сегодня, и среди них наверняка есть немало значительных личностей.
Фауст не похож на Лютера, Меланхтона и большую часть известных реформаторов. В Фаусте нет догматизма и самодовольства, у него нет брюшка и постного выражения на лице. Реформаторы не опасны, за исключением Кальвина и Цвингли. Фауст опасен и непредсказуем.
Виттенберг не стал большим городом, он потерял университет (он был переведен в Хале), провинциализировался. В конце XIX века Виттенберг внезапно стал местом строительства огромных заводов по производству отравляющих веществ и взрывчатых материалов. Они расположились в районе Пистерица, где выдающийся архитектор Карл Яниш, главный инженер заводов «Сименс-Шукерт», построил корпуса, а Шмиттхеннер и Сальвисберг создали очаровательный рабочий поселок с ратушей, школой, садами, площадями, — все в живом и пластичном «родном стиле» (Heimatschutzstil). Городок для Гретхен XX века, работающей на заводе взрывчатых веществ.

Франкфурт-на-Майне
Франкфурт — город Шписа, автора народной книги о Фаусте, и Гете, автора «Фауста». С ним связывают одно из важных событий в жизни Гете, давшее толчок к созданию трагедии. Речь идет о девушке-детоубийце Сюзанне Маргарите Бранд. Эта ужасная история произошла в 1772-м, когда Гете был совсем молод. Она заинтересовала его и как юриста, и как франкфуртца, и как молодого мужчину. Читатель изящной литературы часто за красивыми словами и возвышенными идеями не отдает себе отчета в том, что Гретхен — как она ни несчастна и ни прекрасна — убила свое дитя и в известном смысле явилась причиной смерти своей матери. «Почему молодая немецкая женщина убивает свое дитя?» — спрашивает сегодня Интернет. Ответы не сильно отличаются от тех, что давались триста лет назад: потому что женщины по каким-то причинам утратили человеческий облик; потому что общество создает такие условия, что не все могут выжить и не всех стоит обрекать на жизнь; потому что ребенок — часть матери и она естественным образом вольна делать с ним все, что захочет; потому что такие женщины лишены веры; потому что мужчины — сволочи; потому что женщины — сволочи; потому что кто сказал, что родиться лучше, чем не родиться; потому что все индивидуально и уникально. Потому что человек непостижим.
Франкфурт-на-Майне — город банкиров и газетчиков, издателей, купцов, химиков и фармацевтов. Город высших учебных заведений, институтов, исследовательских центров. Город либералов, центристов, демократов, социалистов, левых и правых, скорее умеренных, чем радикальных. Город умного Адорно и прогрессивной франкфуртской школы, критиков и критики. Город социальных наук. Город вокзала и аэропорта, когда-то самого-самого, а ныне устаревшего и забытого. Город ярмарок, книг и журналов — макулатуры. Город в центре Германии и в то же время вне ее — проходной двор Европы, предбанник Америки. Город небоскребов, но не столица.
Несмотря на мужской — банкирский, предпринимательский — дух, Франкфурт — это город Гретхен, город многих замечательных женщин.
Город, где не был Фауст; но где прошло детство и отрочество Гете, гессенского, «регионального» Гете. Город парламента, размещенного в церкви, похожей на круглый павильон, партий, дебатов, — форм, в основном чуждых Фаусту. Большой город, знаменитый, богатый, комфортный и при этом — особенный: некрасивый, нелюбимый, бесконечно прозаический. Город Макса Бекмана, выдающегося художника ХХ века и автора единственных в своем роде рисунков ко второй части Фауста.
Фаустианцу не хочется во Франкфурт, но он должен его посетить. Должен взглянуть на дом семьи Гете и смело пережить факт превращения Гете-Фауста-Гретхен в леденцы и попкорн; должен найти дом Ротшильдов и подробно, с чувством изучить Еврейский музей, который в нем находится; должен не только пройтись по злачным местам вокруг вокзала, но и истратить в них приличные для фаустианца деньги (ибо фаустианец ни в коем случае не скряга); должен войти в Кайзердом и, преодолевая отвращение к реставраторам, поблагодарить их за то, что они хоть что-то оставили от этой благородной постройки; должен с глубоким философским чувствам пережить закат солнца, освещающего высотные здания банков; должен осознать, что во Франкфурте родилась и выросла Камилла Хорн, может быть, лучшая Гретхен XX века.
Вообще, несмотря на мужской — банкирский, предпринимательский — дух, Франкфурт — это город Гретхен, город многих замечательных женщин. Это утонченная художница-акварелистка XVIII века Мария Сибилла Мериан (специалист по цветам, фруктам и насекомым); это гениальная личность, уникум — Беттина фон Арним, сестра поэта Клеменса Брентано, мать семерых детей, писательница, общественный деятель; это Раэль Хирш, первая женщина — профессор медицины в Германии; это легендарная Анна Франк, жертва фашизма; это Розмари Нитрибитт, проститутка, гетера высокого стиля, убитая во Франкфурте в 1957 году, символ «западно-германского экономического чуда» 50–60-х годов (ее клиентами были миллионеры голубой, не только еврейской, крови, среди них плейбой-фауст Гюнтер Закс, фотограф, друг Энди Уорхола, спортсмен, документалист, меценат, коллекционер и астролог); наконец, это милейшая Пия Вундерлих, футболистка с лицом Гретхен — и еще целый полк пламенных феминисток, прекрасных врачей, мудрых политиков, блестящих спортсменок, певиц и моделей. In wenigen Minuten verlassen wir Gretchen Stadt Frankfurt am Main…

Лейпциг
Лейпциг — важнейшее место для фаустианца. Степень сухости, внеэмоциональности достигает здесь такого уровня, что фаустовское начинает прорываться вполне брутально. Сразу в двух формах: бурлескной и спиритуальной. Здесь фаустианец прежде всего отправляется в погребок Ауэрбаха, рассматривает и ощупывает скульптуры Фауста и Мефистофеля при входе, спускается вниз по крутой лесенке, разыскивает кухню ведьмы и дыру, через которую герои Гете вылетели на воздух, заказывает рейнвейн, пробует шнапс, время от времени осторожно поглядывая на забавные картины, покрывающие стены и своды древних залов. И повторяет про себя: «Неужели, неужели и в самом деле? …»
Лейпциг и Франкфурт — родственники. Но Лейпциг сохраняет память о реформации и барокко, о молодом Гете кофеен и флирта, о Вагнере (с его глубоко значительной увертюрой «Фауст»), Шумане (тоже Фаусте и авторе гениальных «Сцен из «Фауста»), Бахе, Мендельсоне, Регере и прочих. Лейпциг, наряду с Веной, — это столица немецкой музыки.
Где мы услышим музыку Фауста?
Музыка играет в «Фаусте» особенную роль, этого нельзя не заметить, — если только преступно забыть о том, что «Die Sonne toent nach alter Weise In Brudersphaeren Wettgesang…», что хор ангелов и звон колоколов возвращают Фауста к жизни в пасхальную ночь, что народ за городскими воротами танцует и поет, что духи Мефистофеля усыпляют Фауса песнопениями, что сам Мефисто не прочь спеть поучительную песенку, что таинственнейший смысл легенды о Тульском короле облечен Гете в потенциально музыкальную форму, что значительную часть стихов можно читать как слова песен, что вся сцена в соборе — музыка. То же во второй части, на карнавале, в некоторых местах Классической Вальпургиевой ночи (хотя бы песни Сирен, хор Муравьев), которая заканчивается громогласным гимном природе: «Сигналы, раскаты салюта с башен, трубные гласы и барабанный бой, военная музыка, торжественный марш могучей воинской силы». То же в сцене гибели Эвфориона: «Из пещеры доносится очаровательная, чисто-мелодическая музыка струнных инструментов. Все замечают ее и кажутся глубоко тронутыми. Отсюда вплоть до указанного места все дается в сопровождении полнозвучной музыки». И, наконец, мистическая оратория финала трагедии.
Где мы услышим музыку Фауста? То в Вене Малера, то ранней весной на вершинах Кавказа, то во дворе замка Гогенцоллерн, то в Мариенкирхе в Любеке, то на закате в монастыре Маульбронн, где мальчики разучивают мотет, раздающийся на всю округу.
Лейпциг: памятник Битве народов (Наполеон, Веллингтон, Блюхер), русская церковь, Дойче Бюхерай, Гевандхаус, Томанеркор, Рейхсгерихт. Дом-семья-кабинет, прогулка-воскресенье-понедельник, абонемент (в библиотеке и в филармонии), наука-культура-карьера, бакалавр-магистр-доктор-профессор, кафедра-факультет-институт, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwuerde, Gesamtausgabe, Kleine Schrift en, Einfuehrung-Einleitung-Handbuch, Festschrift, Abend, клавирабенд, вечер памяти, вагнеровские чтения, мемориальная доска. Город Вагнера — фаустовского.

Веймар
Городом Фауста является, может быть, как никакой другой, Веймар. Здесь Гете писал и закончил свою трагедию. Здесь был театр Гете. Здесь он принимал участие в жизни двора, был министром. Здесь занимался всеми науками и рассуждал обо всем на свете.
Веймар, несмотря на свою древность, не похож на средневековый город. Это прекрасный город-сад, город дворцов, парков, павильонов. Он производит вполне идиллическое впечатление. Ни Фауста, ни Гретхен в Веймаре не встретишь.
нельзя сказать, что Веймар полностью лишен противоречий
Но этот город похож на изящную ширму, за которой движутся тени Фауста, Мефисто и других известных персонажей. Они в двух шагах, в Лейпциге, в Эрфурте. Более ощутимо присутствие некоторых персонажей и декораций второй части, может быть, не самой Елены, но масок маскарада, античных божеств Классической Вальпургиевой ночи и даже военного антуража, ведь недалеко Йена и Ауэрштадт, сражение 1806 года с Наполеоном.
В Веймаре не было университета; зато художественные школы — консерватория Листа, академия художеств, в которой учился Макс Бекман, Bauhaus Гропиуса, Кандинского, Иттена, Клее — сыграли историческую роль в искусстве XX века. Веймар Лукаса Кранаха и немецкой классики, музыки, изобразительных искусств и прикладного искусства (Хенри ван де Вельде) — это город искусств.
Вместе с тем нельзя сказать, что Веймар полностью лишен противоречий. С XVI века это город протестантский, в нем разыгралось немало интеллектуальных драм. Веймар — город Гердера, великого протестантского ученого, который вел отсюда полемику с Кантом. Это город Шиллера. В XIX и начале XX века главную роль здесь играли музыканты: Лист, Вагнер, позднее Бузони и наследники листовской школы. Если присовокупить к этому такие важные факты, как пребывание в Веймаре больного Ницше и создание его архива, то Веймар явится узлом коренных противоречий немецкого грандиозного духа XIX–XX веков — противоречий между классикой и романтикой, между космополитизмом и национализмом, между духом современности и духом консерватизма. Веймар предстанет перед нами как камерная сцена, на которой ставится грандиозная трагедия, способная привести к взрыву самого театра. Все линии скрестились в Веймаре: от христианства до античности, от филологии до философии (Кейзерлинг), от ростков дизайна в Баухаузе до «родного стиля» Шульце-Наумбурга, от Римского дома Гете до «Гау-форума» в центре Веймара, от Рудольфа Штейнера, изучавшего естественнонаучные сочинения Гете, до Освальда Шпенглера, развивающего здесь идеи консервативной революции. Здесь же произошли важные политические события — создание веймарской республики, появление концентрационного лагеря Бухенвальд, превращение города в оплот культуры ГДР. В 1946 году Томас Манн выступал в Веймаре с речью перед памятником Гете и Шиллеру.

Берлин
В эту дыру доктор Фауст не заезжал. В XVI веке Берлин был еще слишком мал и незначителен, чтобы южнонемецкий ученый-плейбой поехал туда по песчаным дорогам искать… а чего, собственно? Впрочем, дух Фауста рассудил иначе, незаметно поселившись на берегах Шпрее и Хавеля.
Гете был в Берлине и в Потсдаме всего один раз, в 1778 году, в составе дипломатической миссии. Фридриха не было на месте: он отсутствовал по делам военным. Гостям показали дворцы, попугаев, роскошь. Гете заметил дырки на портьерах и остался недоволен гофмаршалом. «Там проживает столь лихая порода людей, что ведя себя деликатным образом, там далеко не уедешь, — следует быть решительным и даже скорее грубым, чтобы хорошо держаться на плаву. Народец довольно самонадеянный, одарен от бога юмором и иронией и не жалеет показывать эти дары». Зато образованные берлинцы всегда тянулись к Гете. В 1919 году, всего на два года позднее, чем в Мюнхене, в Берлине появилось отделение веймарского «Общества Гете».
Сюжет «Гете и Берлин» колоссален и чем-то напоминает сюжет «Гете и Москва»: культурные люди, гетеведы, спектакли, фильмы, книги, книги, книги… Но все-таки «Фауст и Берлин» — совсем иная история. С одной стороны, нынешний Берлин для Фауста великоват, с другой стороны — это как раз его масштаб. С одной стороны, государственная деятельность Фауста увлекала, с другой — Фауст ведь совсем не про судьбы наук и государственное управление. Фауст — про то, как жить и умирать, про то, как быть человеку между богом и дьяволом, природой и социумом. Это вопрос и внутренний, и внешний, вопрос о том, что делать человеку. В Берлине он часто разрешался и разрешается автоматически: служить, бегать, успевать, блистать и снова служить. «Служение» — главное слово, причем и в смысле «служить начальству», и в смысле «служить идеалам», что диалектически переплетается. Берлин ведь город зрелой диалектики… Существует, впрочем, и другая возможность: жить тихо, скромно, как бранденбургский тополь, — исчезнуть в неприхотливом быту, а потом подняться к небу дымком крематория…
Берлин — это прекрасное место для того, чтобы пропасть и стать
Берлин, как отчасти и Петербург, — это яркое воплощение города, в котором Фауст, так сказать, растворен, но отсутствует как конкретное лицо; города скорее фаустианского, чем фаустовского, хотя, наверное, точнее было бы сказать, что на этих примерах — Петербурга и Берлина — можно понять, что фаустовское переходит в фаустианское, и наоборот.
У Берлина несколько истоков. Один очень древний, благородный, рыцарский, и след его теряется по дороге из Кенигсберга. Другой местный, почти деревенский или лесной, но вовсе не наивный, не безыскусный. Берлин — результат опрощения духовно-рыцарского начала и его адаптации к быту. Кого ни возьми в старом Берлине, да и в нынешнем тоже, — писателя, пидора, бюрократа, ученого — все воители, но только воители, растратившие трансцендентные ценности, воители конъюнктуры, даже моды. Как правило, ценность одна — свобода, в смысле «берлинер люфт»; к ней прибавляется берлинская простота (то, что Гете назвал «неотесанностью»), выражающаяся в берлинском коллективизме-стадности-солидарности. Берлин — город великой и часто самонадеянной социальности с большой буквы. Все это для Фауста искушения: народничество и служба, долг и эффективность, неустанность и берлинский фасадный оптимизм. Берлин ведь один из родителей белозубой Америки.
В то же время Берлин — это прекрасное место для того, чтобы пропасть и стать. Причем как в поверхностном смысле — сначала исчезнуть, потом обрушиться снова; так и в глубоком: stirb und werde! В этом весь Берлин, стелющийся, невидимый, необозримый, скрытый в зелени, в дымке.
Так сложилось в немецкой истории, что Берлин — это город свершений-крушений. Что ни возьми, все в конечном счете оказывалось тщетным: величие Фридриха, растаявшее как дым, гегелевская философия, словно и не было ее, гумбольдтовский университет, словно это была ошибка, государство, Генеральный штаб (!), национальный проект, социалистический проект, «западный Берлин» (что был и сплыл), даже единство Германии, всегда признававшееся в Берлине и в меньшей степени вне его. Что осталось? Спорт, железная дорога, тополя, «филармоникер», «берлинер киндль», проблемы, финансы, бюрократы, пустыри, поляки, турки, леваки… Что же здесь фаустовского? Различие между замыслом и осуществлением, между программой и реализацией. Проблема единства тщетности стремления и благородства стремления.
Две-три мелкие заметки. В 1758 году Г.Э. Лессинг снова стал жить в Берлине. Вместе с другими писателями просветительского толка, Фридрихом Николаи и философом Моисеем Мендельсоном, он публикует письма о современной литературе. Семнадцатое письмо было посвящено Фаусту. Дом Мендельсона, где бывал Лессинг, еще стоит, чудом сохранившись в войну.
«Берлинский триптих» романов Владимира Набокова, написанных в 1920-х годах — «Защита Лужина», «Дар», «Приглашение на казнь» — некоторыми критиками трактуется как отдаленно фаустовский сюжет. У нас нет мнения по этому поводу. Несмотря на научные интересы (энтомология), культ красоты, глубокое понимание человеческой психологии и чуть ли не латентные философско-оккультные склонности, Набоков не является кумиром фаустианца и не входит в круг героев доктора Фауста.

Потсдам
В Потсдаме фаустианец обязательно разыщет «башню Эйнштейна» — астрофизическую обсерваторию, построенную архитектором-экспрессионистом Эрихом Мендельсоном в 1917–1921 годах. Захочет он посетить и дом Эйнштейна в Капуте, где ученый жил в конце 20-х — начале 30-х годов.
Брауншвейг
В этом суровом городе солдат и герцога Генриха Льва впервые была поставлена трагедия Гете «Фауст». В этом же городе умер Лессинг, который писал своего «Фауста».
Ганновер
В Ганновере на Бременской улице есть «Кунстхалле Фауст» с биргартеном «Гретхен».
Тюбинген
Доктор Фауст в Тюбингене не бывал.
Здесь вышло в свет первое издание «Фауста» Гете.
В этом городе профессор философии и эстетики Ф.Т. Фишер написал третью часть «Фауста» — пародию, «сочиненную в стихах, строго в духе гетевского Фауста господином Дойтобольдом Симболицетти Аллегоревичем Мистифицинским» (1886).
Профессором Тюбингенского университета был в ХХ веке выдающийся философ, психолог и педагог Эдуард Шпрангер. Ему принадлежат значительнейшие сочинения о Гете. Шпрангер и филолог-классик Вернер Егер выдвинули идею «третьего гуманизма» (после ренессансного и гимназического неогуманизма XIX века). Главная задача — сохранение культурного импульса, идущего из Древней Греции и воспитание современного человека. Человеческая индивидуальность должна быть «emporgeläutert» — очищена и приподнята, освящена, она должна превратиться «из данной от природы предрасположенности в духовную, художественно обработанную конституцию», которая не может исчерпываться ни знаниями, ни способностями к определенному труду, ни голой теплотой чувства. Образовательным идеалом является для Шпрангера «наглядное представление воображения о человеке, в котором общечеловеческие признаки осуществлены таким образом, что выражена не только норма, но и телеологически ценное этого человека дано отпечатанным в наивысшей мыслимой форме». Шпрангер различал два вида истины и знания. Знание «переднего плана», не оказывающее на человека культурно-образовательного воздействия, не затрагивающее индивидуальность. И так называемое срединное знание, или «истина сердцевины», которая втекает и вытекает из индивидуальности, помогая ей образовать реальные связи. Принцип образования для Шпрангера основан на идее органических и концентрических жизненных кругов. Иначе он называет его принципом Родины (не только в топографическом или этнографическом смысле). Речь идет о духовной Родине. Индивидуальный мир возникает как система концентрических окружностей: семья, профессия, нация, государство, религия. В центре стоит Бог — любовь. Только он обеспечивает тотальность переживания мира. Последнее исполнено, по Шпрангеру, ценностной тотальности, иначе говоря, переполнено Богом. Только это переживание дает чувство небессмысленности образования. Новый гуманизм, по Шпрангеру, есть «исторически углубленное исследование того, что такое человек в тотальной структуре его сил, это вопрос о возможностях человека, о его действительности и о его вершинах». Может быть, особенно ясным становится шпрангеровское понимание гуманизма из следующего предписания педагогу:
Подразумеваемое действие [ученика], которое он хочет породить, должно быть живым и активным в самом воспитателе. При этом он должен суметь привести его к такому изолированному изображению, что в воспроизведении оно получается чистым и отчетливым, и ощущается в своем специфическом значении как удовольствие. Это мы называем воспитанием ценности, то есть привлечением чувства к основным духовным актам, в которых «Я» осознает свои силы и свое самопострояющее творчество.
Тюбинген прекрасен почти как Гейдельберг, только он проще, чище и спокойнее. В нем нет гор и ренессансных замков. Всюду мелькает Гретхен.
В 1807–1843 годах в Тюбингене, в башне на реке, жил Фридрих Гельдерлин. Его светлое имя и почти девичий образ приходят в голову фаустианцу, когда он размышляет о Вечной женственности. Конечно, Гельдерлин — не девочка. Это герой и певец героев. Благодать снизошла на него вместе со знанием. Его дух питался и светом солнца, и силой земли. Стремление свойственно ему в огромной мере. Не исключено, что часть души Фауста воплотилась в больном поэте и еще долго пребывала на земле, пока Мефисто оплакивал оставшиеся в его руках лохмотья, а ангелы уже несли все выше и выше самые тонкие структуры его души. Странно, но когда смотришь на башню Гельдерлина или на мутную, беспокойную воду реки, хочется сказать: «Остановись мгновение, ты прекрасно».

Мюнхен
Лежащий на зеленой равнине, обрамленный диадемой альпийских гор, Мюнхен, самодовольный, культурный, цветущий, являет собой, как и Париж, прямую противоположность фаустовскому настроению. Почему же он рождает и притягивает к себе таких разных фаустианцев, как Томас Манн и Гитлер, Шпенглер и Фассбиндер?
Для фаустианца важно, что Мюнхен — город театра, а также королевская резиденция с ее вечными праздниками. Как город науки, всех наук: и точных, и гуманитарных, и естественных, и практических, прикладных, Мюнхен вообще-то город Вагнера и бакалавров всех мастей. Но не город Фауста! Университет огромен и великолепен, но лишен характера. Как известно, Мюнхен двойственен и потому коварен: он и немецкий, и баварский, заключивший союз с Наполеоном. Это католический и/или языческий город, но не протестантский. В нем нет ничего романтического, хотя и здесь были великие романтики (Шеллинг). Более того: несмотря на луну над рекой, горы, замки и все такое прочее, это антиромантическое место. Его поэты и художники по большей части — здоровые консерваторы-почвенники.

Для нас, фаустианцев, Мюнхен — городское воплощение немецкого ствола, ровного и мощного, не без узлов, но прежде всего мощного. Нога футболиста Бекенбауера. За этими образами стоит ощущение древа жизни, ощущение неискоренимости немецкого напора. Это ощущение охватывает тебя, когда ты смотришь и на огромный черный полированный куб — надгробие Шпенглера, и на скромную могилу Фассбиндера, завсегдатая крепкого заведения «Дойче Айхе».
Образованный Мюнхен — сноб до мозга костей
В то же время Мюнхен подобен античной грезе Германии. Правда это или театр — решить затруднительно, глядя на Пропилеи, Глиптотеку, Моноптерос, даже на «настоящие» Эгинские мраморы. От Кленце до Трооста, от колонн до серых столбов Рейха, от аллей Нимфенбурга до пирамидальных тополей Людвигштрассе, которые строят из себя кипарисы, Мюнхен есть сплошной триумф и восторг откровенной бутафории во всех искусствах и стилях: бутафория южно-немецкого Ренессанса и барокко, бутафория классицизма и бутафория Максимиланштрассе, рисунков и росписей Каульбаха, проектов Р. Вагнера, симфонических поэм и опер Р. Штраусса, неосредневековая музыкальная бутафория К. Орфа и Г. Пфитцнера. Словесная бутафория романа «Доктор Фаустус» Томаса Манна — из той же мюнхенской оперы. Но важно понять, что эта бутафория-сценография-литература бывает более правдива, более откровенна, чем сама реальность, и внезапно вместо сухой ваты в ее теле обнаруживается живая пульсирующая кровь: несчастная судьба короля Людвига, судьбы героев Фассбиндера… Фаустианец ценит Мюнхен за щедрость и за непосредственность его факельных шествий, за живость картин, за летние и зимние праздники.
С Фаустом Мюнхен связывает еще одно: стремление к рафинированности. Идея возделывания, или евгеническая идея. Там, где царствует бутафория, где художники загораются при виде муляжей, всегда будет стремление к наивысшей схожести с жизнью, даже к превосходству над жизнью. Там и сама жизнь станет предметом совершенствования. Фауст, конечно, не сноб, но он страстно устремлен к совершенству. Он ищет совершенного познания, совершенного переживания, жаждет совершенного мгновения. Образованный Мюнхен — сноб до мозга костей, в Мюнхене ведь все самое лучшее или хотя бы должно таким казаться (так было и, к сожалению, сейчас этого остается все меньше). Мюнхен непосредствен, но подвирает. Это его и спасает. Фауст высокорефлективен, требователен и хотел бы, чтобы совершенный муляж и вправду стал жизнью, а жизнь стала бы точным знанием и творчеством. К сожалению, это возможно не более чем в мюнхенском «совершенном» воплощении. Счастье Мюнхена — в южной приблизительности. Трагедия Фауста в том, что для него непостижима мудрость апроксимации. Он взыскует абсолютного. Фаустианец в Мюнхене всегда немного ухмыляется.

Прага
Казалось бы, Прага — по всем статьям город Фауста. Но это только внешне. Прага ведь мягкая, лишь полунемецкая. Здесь находился главный немецкий университет — первый университет Центральной Европы. Здесь работал всемирно известный астроном и астролог Тихо Браге — это уже Фауст. Над городом высится императорский дворец, его залы, тронный и танцевальные, его готические галереи будто созданы для карнавала из второй части «Фауста». Прага — основная сцена исторической борьбы немецкой идеи с национальным чешским возрождением. Это город мудрейших евреев, самого раввина Лева, создавшего Голема — одного из прототипов Гомункула. Это город золотых и серебряных дел мастеров, то есть алхимиков. И в то же время — оплот Девы Марии. Город писателя Кафки и совершенного немецкого языка — языка образованных пражских евреев. В Праге показывают «Дом Фауста» — нарядный барочный особняк. Одним из прообразов Фауста был английский авантюрист и астролог Эдвард Келли, который действительно жил в 1591 году в этом доме. Другим воплощением Фауста считают одного из владельцев дома, Младоту из Солописк, который в 1724 году проводил в «Доме Фауста» необычные для того времени химические опыты. Добавим, что «Дом Фауста» был построен в середине XVI века, затем перестроен в стиле барокко, а в 1838–1902 годах в доме размещалась лечебница для глухонемых.

Вена
Вена дала Гете образ карнавально-танцевальной политики — Венский конгресс («Конгресс танцует, но не движется вперед» — Шарль-Жозеф де Линь). Вена — одна из нескольких театральных столиц мира. «Венская девушка» — конечно, не Гретхен. Скорее, ее противоположность.
Йозеф Антон Страницкий, основоположник кукольного театра, в 1725 году противопоставил в своем спектакле придуманного им Гансвурста-Петрушку и доктора Фауста.
В Вене мы о Фаусте не думаем, но он везде
Гансвурст бродит из города в город и ищет место слуги. С ранцем за плечами он вваливается в кабинет Фауста, зовет прислугу, почему-то приняв жилище Фауста за трактир. Он обносился и обнищал — даже не на что выпить вина, поневоле приходится черпать воду своей остроконечной шапкой. Он мечтает о жареных цыплятах и колбасе. Заметив на столе книгу, Гансвурст пробует читать по складам и находит вот что: «Как сделать старуху молодой». «Это стоит почитать, — говорит он. — Берут полштофа девичьего молока, полмеры блошиных языков, дюжину сушеных раковых хвостов и полтора золотника женской верности». «Редкий, однако, товар, — замечает он. — Далее смешать все вместе и вдуть через перо старухе в… Черт возьми! Пусть вдувает, кто хочет, только не Вурстель!» На его крик приходит Вагнер, объясняет, что здесь не трактир, а дом доктора Фауста, и рассказывает, кто такой этот Фауст. Гансвурст нанимается служить Фаусту и уходит в кухню. Так сюжет кукольной комедии пересказан В. Перетцем, известным отечественным исследователем литературы XVIII века.
В Вене мы о Фаусте не думаем, но он везде: в этом городе одиночества, скуки и разочарования, в городе погони за наслаждениями и восторгами только и остается что повторять слова о прекрасном мгновении. В городе универсальной аналитической науки — от Маха до Фрейда, от Витгенштейна до Лоренца, от Шредингера до Геделя, Шлика, Попера и черт еще знает кого — Фауст, понятное дело, чувствует себя как дома. Труднее тому фаустианцу, который по натуре не естество испытатель, а гуманитарий. Но и лжеученых типа Фауста было в Вене предостаточно, и дух их крепок: взять хотя бы Йорга Ланца фон Либенфельза (1874–1954), священника, оккультиста, авантюриста, антифеминиста, алхимика, астролога, антисемита, расового теоретика и создателя зоотеологии. В 1907 году он основал новохрамовнический (тамплиерский) орден и сделал его резиденцией руины замка Верфенштайн на Дунае. Не уступает ему инженер и физик Ганс Хербигер, автор фантастической теории мирового льда, похороненный в форштадте Маурер. Вена знаменита и своими заслугами по части психологии: упомянем только Адлера и Франкля, рискуя навлечь на себя гнев ученых-психологов. Здесь следует заметить, что доктор Фауст, а также фаусты и фаустианцы вообще совершенно равнодушны к психологии. Им гораздо ближе физиология и особенно анатомия.
Недалеко от Вены, в небольшом местечке Кирхберг-ам-Ваграм в 1980 году была найдена алхимическая лаборатория, датированная 1550–1590 годами (эпоха Фауста), самая большая в мире и прекрасно сохранившаяся. Ее обнаружили под сакристией замковой капеллы. В лаборатории можно увидеть дистилляционную печь «Ленивый Хайнц», разнообразные колбы, реторты, тигли и воронки. Алхимиками замка Оберштокшталь, который в то время был во владении соборного капитула в Пассау, скорее всего, были клирики церкви в Кирхберге — братья Кристоф и Урбан фон Тренбах. Кристоф умер при таинственных обстоятельствах, «не от чумы, а от какого-то рискованного медикамента против чумы». После него остались огромные долги аптекарю и врачу Вольфгангу Каплеру в Кремзе, который был широко известен среди алхимиков. Причиной закрытия лаборатории стало, скорее всего, землетрясение силой девять баллов, произошедшее в Нойленгбахе в 1590 году.
Зальцбург
Зальцбург — идиллический, туристский городок — на первый взгляд, к Фаусту никакого отношения не имеет. Но Зальцбург действительно прекрасен, прекраснее, чем все открытки с его видами, и одно это заставляет задуматься. Город, лежащий в низине у реки, лес, встающий стеной в двух минутах ходьбы от соборной площади, замки и монастыри, пещеры и обрывы, горы и звезды, сияющие здесь так близко, как нигде в Германии. Зальцбург — город, с XVI века связывающий Германию и Италию, город гуманистического карнавала в переносном смысле. Это город Тракля, великого немецкоязычного поэта. Здесь на кладбище Святого Себастьяна лежат останки Парацельса — фаустианец не может отказать себе в удовольствии написать его имя полностью, — Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, величайшего врача эпохи Возрождения. Гете очень интересовался им как ученый и натурфилософ. В Зальцбурге в 1803 году, в доме, расположенном по соседству с домом Моцарта, родился также математик и физик Кристиан Доплер, основатель экспериментальной физики, открывший так называемой эффект Доплера и проложивший путь Маху, Эйнштейну, Гейзенбергу.
Моцарт и Фауст связаны не напрямую, но тем не менее определенная связь существует. Во-первых, Гете считал, что Моцарт должен был написать (хотя и не написал) музыку к «Фаусту». Во-вторых, накануне своей смерти у Моцарта была крайне странная встреча с заказчиком «Реквиема». В-третьих, маленький, шустрый, страстный, гениальный Моцарт ассоциируется у фаустианца с Гомункулом (фаустианец почти одинаково обожает обоих). Моцарт состоялся немедленно, прожил недолго, канул куда-то и в то же время распространился буквально по всему миру. Он облек Дон Жуана в музыку, и уже поэтому Моцарт — фаустовский композитор (конечно, не для тех, кто слышит в нем одно аутентичное рококо). Мефистофель, скорее всего, предлагал Марте Mozartkugel. Здесь находится дворец Леопольдскрон, который в 1918 году купил Макс Рейнхардт и превратил его в место проведения театральновеликосветских приемов. Ныне там располагается Американский культурный центр «Зальцбургские семинары».

Faust-Stadt
Так принято называть систему декораций для спектакля «Фауст I» Макса Рейнхардта, созданную Клеменсом Хольцмайстером в Зальцбурге. Faust-Stadt отстраивался каждый август, с 1933 по 1937 год. Городок просуществовал недолго: в 1937 году фашисты оккупировали Австрию и Рейнхардт был вынужден эмигрировать в США. После его отъезда «Фауст» уходит в историю, а вместе с ним и Faust-Stadt.
Мистериальный город, город-театр, «жилище духа» и сомнений
Место для строительства «Фаустианского городка» было выбрано неслучайно. Летняя школа верховой езды (Felsenreitschule) — живописное пространство под открытым небом, уютно расположившееся у подножия отвесных скал горы Менхсберг. В начале XVII века здесь добывали камень для строительства Зальцбургского собора. Позже карьер был укреплен вырезанными в скале аркадами, а площадка перед ним превратилась в придворный манеж. После секуляризации Зальцбурга этот шедевр архитектуры барокко использовался как складское помещение и лишь в 1920-е годы — с началом Зальцбургских фестивалей — получил вторую жизнь. Сейчас «Летняя школа верховой езды», объединенная с Большим Фестивальным залом (Großes Festspielhaus), носит название «Дом Моцарта» (Haus für Mozart) и является одной из трех основных театральных площадок Зальцбурга. Хольцмайстер, известный австрийский архитектор, автор церковных и общественных зданий, создал конструкцию общей высотой в двадцать метров, которая являла собой систему домиков, садиков, лестниц, улиц и площадей, соединенных тропами и мостами. Замкнутый сценический мир Faust-Stadt, несмотря на большое количество архитектурных элементов, был строго иерархичен. Городок «жил» на нескольких уровнях: в вышине, на улочках и лестницах, ниже, на авансцене, и еще ниже, на орхестре. Монолог «Две души живут во мне» Фауст произносил в самой верхней точке города; с вышины появлялись архангелы; в небо уходила стена церкви. Кабинет Фауста, комнаты Гретхен и Марты располагались посередине, сцены «Кухня ведьм» и «Погреб Ауэрбаха» разыгрывались внизу, под авансценой. Справа по отношению к зрителю было «жилище духа» — устремленная вверх церковь, кабинет ученого, статуя Девы Марии, у которой молилась Гретхен. В левой части — бюргерские домики, а между ними — ворота города, символические ворота в другой мир.
«Маленький городок постоянно находился перед глазами, — писал один из критиков, — и не только городок, а все Средневековье с его теснотой и вместе с тем глубиной. Мир, отданный Богу и дьяволу, потрясал своей ясностью, наглядностью и беззащитностью, как ничто прежде в театре. Наверху, над обрывом, шумят и манят верхушки старых деревьев, а еще выше — небо и звезды, под зорким присмотром которых идет спектакль…» (Bernd M. Goethes «Faust» auf der Bühne (1806–1998)).
Мистериальный город, город-театр, «жилище духа» и сомнений, уничтоженное «нечистью», — быть может, самый эфемерный из когда-либо созданных городов.
Александра Дунаева
Инсбрук
Фауст приезжал в Инсбрук к императору Максимилиану. Значит, он был в замке Амбрас и видел кунсткамеру. Замок и сад по характеру близки к тому образу, что рисует в воображении фаустианец, когда во второй части Фауста читает о карнавале.
Базель
В Базеле, который по всем признакам тоже город Фауста, находится Фармацевтический музей университета, основанный в 1924 году. С ним может сравниться только Музей аптечного дела в Гейдельбергском замке. Базельский музей располагается в старинном здании, известном как «Дом «В переднем кресле»» (Zum Vorderen Sessel). Он стоит на улице, ведущей от рынка к церкви Петра. В начале XIV века здесь были бани «Среди старьевщиков» (Unter Krämern). С конца XV века в доме поселился Иоганн Амербах, мастер-печатник и родоначальник знаменитой семьи ученых. В 1507 году у здания появился еще более славный хозяин: Иоганн Фробениус — самый авторитетный европейский печатник своей эпохи. Именно у него в 1514–1516 годах гостил сам Эразм Роттердамский. В этом доме жили также великий художник Ганс Гольбейн Младший, вероятно, именно здесь выгравировавший свою «Пляску смерти», его брат Амброзиус (автопортрет которого висит в Эрмитаже), а также виртуозный график Урс Граф. Наконец, в 1526–1527 годах, будучи домашним врачом Фробена, здесь проживал сам Парацельс. Трудно, не правда ли, вообразить себе более фаустовское местечко! Самое интересное помещение музея — готическая капелла XV века, превращенная в алхимическую лабораторию, переполненную самыми фантастическими аппаратами. С ней резко контрастирует по стилю лаборатория аптекаря, реконструированная в 1800 году: в этой светлой комнате в стиле ампир множество приборов, которые служили для изготовления химических препаратов. Великолепная Иннсбрукская придворная аптека в барочном стиле (около 1755 года) дает представление о старинной науке как зрелище, наполненном пафосом познания, учеными аллегориями и изящной театральностью.
Дорнах
Конечно, главнейшим фаустовским местом в Швейцарии является Дорнах, расположенный всего в нескольких километрах от центра Базеля в немыслимо живописной долине. Можно было бы вспомнить и о Санкт-Галлене, где жил и работал Парацельс, и заметить при этом, что фаустовский дух скорее чувствуется в католических монастырях протестантской Швейцарии, чем в духовно стерилизованных кальвинистских и цвинглианских кантонах. В общем, та же проблема и с Дорнахом, где все вопиет о Фаусте и Гете, но где их как раз и нет! Фаустианец, однако, вряд ли сможет противостоять искушению: он едет в Дорнах с тревогой и трепетом.
Антропософия — особое современное мировоззрение, даже религия или квазирелигия
Дорнах прославился своим атропософским центром. Это Гетеанум, созданный по проекту Рудольфа Штейнера для исследований в области духовной науки и всемирной пропаганды антропософии. Здесь находится правление Всеобщего антропософского общества. Но прежде всего Гетеанум — это театр-храм Цвета, а также Гете и Фауста. Первый Гетеанум, построенный из дерева, представлял собой композицию из куполов. Он сгорел в 1923 году. Второй Гетеанум был более или менее закончен к 1928 году (строительство продолжалось до конца 1990-х годов). Это сооружение из бетона гигантских размеров похоже на скалу, череп, пещеру, фантастическое чудовище и оставляет сложное впечатление. Вокруг него расположено еще множество подобных построек, образующих свободное поселение. Вся эта архитектура — так называемый экспрессионизм — напоминает кино и, несмотря на массы бетона и высокое качество строительства, эта архитектура оставляет бутафорское и чисто аллегорическое впечатление. Раз в год в Гетеануме ставятся обе части Фауста. Впервые это произошло в 1938-м. Кроме того, каждое лето исполняются мистерии, созданные Штейнером. Он был, без преувеличения, великим гетеведом, сделавшим для Гете в XX веке чрезвычайно много. Прежде всего Штейнер обессмертил себя как издатель многотомных естественнонаучных сочинений Гете. Но и его интерпретации «Фауста», стихотворений и прозы Гете значительны.

Антропософия — особое современное мировоззрение, даже религия или квазирелигия. Можно относиться к ней по разному, сейчас речь не об этом. В жизни фаустианца нет жесткого предписания: nach Dornach! Поэтому он вкушает красоты и чудеса Дорнаха с дистанции, постоянно задавая себе вопросы: здесь ли Фауст? Что бы сказал Мефистофель?
Фаустианцы — не секта, они раздроблены и противоречат друг другу. Антропософы, хотя и имеют общего учителя — Рудольфа Штейнера, — в реальности бывают различны и внутренне разобщены. Часто ссылаются на центральную роль метода (наглядное мышление) в антропософии. Здесь возникает вопрос о том, каково отношение Фауста как мыслителя к методологии. У нас нет уверенности в том, что Фауст методолог, что он ищет ключ. Действительно, ищет ли Фауст новой точки зрения (может быть, даже религии), нужно ли ему новое мировоззрение, или он, вместе с Гете, готов обходиться старым, глубоко традиционным, а также фрагментарным и конкретным ad hoc — чувством, действием, смыслом? В самом ли деле фаустовское переживание, фаустовская проблема в том, чтобы обрести основы научного духовидения? Эти вопросы мучают фаустианца, посещающего Дорнах. Здесь он встречает столько фаустианцев — фаустианцев чуть ли не по профессии, — что ему становится не по себе.

ВЕСЬ ИЛИ ПОЧТИ ВЕСЬ МИР
В самом деле, а весь ли мир находится в сфере интересов Фауста и фаустианца? Что касается последнего, то при всей широте своих интересов он не лишен избирательности и даже идиосинкразии.
Париж
Париж и Фауст. Не Фауст тянется в Париж, а, напротив, Париж тайно ждет прибытия Фауста. После Гретхен и Елены, Брокена и Классической Вальпургиевой ночи город изящной неги уже не может соблазнить Фауста. Париж с его учеными, спиритами, наркоманами, оккультистами, алхимиками слова и цвета, актерами политики, философии, театра нередко подражал чему-то квазифаустианскому, скорее мефистофелевскому, но никогда не был в состоянии примкнуть к фаустовскому радикализму и не понимал, почему ему ничего не нравится, ведь каждое мгновение так прекрасно! Реальный Фауст груб, непонятен, примитивен, прямолинеен в Париже. Вопрос о парижских фаустах повисает без ответа. Паскаль — да нет! Бергсон — смешно! Сартр — обхохочешься. Бодрийяр, Лакан — одни фамилии чего стоят. Может быть, все-таки… Он, блестящий и ужасный, умнейший и несчастный, полководец, государственный ум, дух, наконец, — Наполеон?! Не похоронен ли в Доме инвалидов Фауст XIX века и «мировой дух», которого мог видеть Гегель? В игрушечном гробу, под раззолоченным куполом ancienne regime со всем его ренессансами и классицизмами, аллегориями и риториками. Дом Инвалидов — самое фаустовское место во Франции. Это Фауст второй части. Впрочем, для того чтобы быть Фаустом, Наполеону не хватает разнообразия. Он одномерен. Где две души в одной груди? Где порыв к сосцам истины? Фауст труждается не об устройстве цивилизации, он не мог бы дать Кодекса, так как нарушил бы его сам.
Париж — мастер адаптаций Фауста. Он наполняет его эмоциями, красками, черной и красной дьявольщиной. Это начинается у Делакруа, незаконорожденного сына ТалейранаМефистофеля, в его иллюстрациях к первой части (1828) и продолжается у Гуно, в его опере. В Париже Фауст переводится с немецкого на усредненный европейский, становится эмоционально понятен. Парижане много думали о Фаусте. В первую очередь Гюго как почти настоящий алхимик; социалисты-утописты, Сен-Симон с его «фаланстерами»; символисты, кокаинисты… Бретон? Дюшан? Они из этой «человеческой комедии», но, кажется, на вторых ролях — они по доброй воле предпочли раствориться в объективном. Автоматическое письмо, смерть автора (ответственности), нулевая степень письма (следа) — не фаустовские искушения. В начале было Дело, не слово.
Гитлер на парижском ветру у дворца Трокадеро, наивный, завистливый, восхищенный… Эрнст Юнгер, бесстрашно откупоривающий шампанское под американскими бомбами в 1944 году…

Лондон
Лондон или The Big Smoke, «большой дым», а также «большой нарыв», город, который не имеет никакого отношения к Фаусту, если не считать того, что в Лондоне была создана трагедия Кристофера Марлоу (1564–1593) «Трагическая история доктора Фауста» (впервые опубликована в 1604-м), в которой герой был впервые представлен как возвышенный персонаж. Фауст у Марлоу, как и Люцифер у Мильтона, «преклоняется перед мощью разума, дерзновенно нарушает запрещение «вкушать от древа познания». Мечты и желания Фауста у Марлоу — целая программа экспансии, осуществляемой жадными авантюристами, начинавшими свою социальную карьеру в Британии. Герои Марлоу неоднозначны, они вызывали у зрителей одновременно ужас и восхищение. Марлоу не только восставал против средневекового смирения человека перед силами природы, против средневекового мышления в целом, но также утверждал, что религия — орудие политики, выдуманное попами для эксплуатации невежественной массы, что пророки были фокусниками и обманщиками». Так пишется в энциклопедии, и все это верно.
Особенно характерно для лондонского Фауста то, что он хотел бы, умерев, все-таки получить вторую жизнь.
Лондонский Фауст снедаем алчностью, он колонизатор и империалист.
Смогу ли я незримых духов слать
За чем хочу, во все концы земли?
Я прикажу все тайны мне открыть,
Осуществлять все замыслы мои:
За золотом мне в Индию летать,
Со дна морей сбирать восточный жемчуг,
И, обыскав все уголки земли,
Чудесные и редкие плоды
И царские мне яства приносить!
Велю открыть нездешнюю премудрость
И тайны иноземных королей;
Германию укрыть стеной из бронзы
И быстрый Рейн направить в Виттенберг;
Наполнить школы я велю шелками,
В которые студенты облекутся;
Найму войска, какие захочу,
На золото, что духи мне доставят;
И изгоню отсюда принца Пармы
И стану всех земель отчизны нашей
Единственным отныне государем!
Военные снаряды похитрее,
Чем огненный антверпенский корабль,
Изобрести велю я духам-слугам!

В Лондоне Кристофер Марлоу входил в круг интеллектуалов, философов и поэтов, возникший вокруг Генри Перси, 9-го графа Нортумберлендского и оккультиста сэра Уолтера Рэли. Они создали что-то вроде ложи под названием «Ночная школа». Обсуждалось «запретное знание», вопросы математики и поэзии. Участниками кружка были математик Томас Гэрриот, поэты Уолтер Уорнер и Филипп Сидней. Перси как алхимик и картограф получил прозвище «мастер ведьмовства». Всех участников современники подозревали в атеизме и в приверженности политической доктрине Маккиавели.
Трагедия Марлоу заканчивается большим монологом Фауста — криками отчаяния и воплями о спасении. Фауст трусит, готов отказаться от всех своих увлечений и страстей. Он проклинает себя. И тут же переходит к угрозам. Молит время остановиться, не потому что мгновение прекрасно, а потому что через секунду он должен кануть в аду.
Смотри, вон кто-то тянет,
Неведомый, меня упорно вниз.
Вон кровь Христа, смотри, струится в небе!
Лишь капля, нет, хотя б всего полкапли
Мне душу бы спасли, о мой Христос! …
За то, что я зову Христа, мне сердце
Не раздирай, о сжалься, Люцифер! …
Взывать к нему я все не перестану!
Где он теперь? Исчез! … О, вон, смотри,
Бог в вышине десницу простирает
И гневный лик склоняет надо мной.
Громады гор, обрушьтесь на меня,
Укройте же меня от гнева Бога!
Особенно характерно для лондонского Фауста то, что он хотел бы, умерев, все-таки получить вторую жизнь. Он не претендует на новую человеческую судьбу. Он жаждет раствориться в природе, стать животным или туманом, каплей воды.
Ах, если б прав был мудрый Пифагор
И если бы метампсихоз был правдой,
Душа моя могла б переселиться
В животное! Животные блаженны!
Их души смерть бесследно растворяет.
Моя ж должна для муки адской жить.
Будь прокляты родители мои! …
Нет, самого себя кляни, о Фауст!
Бьют, бьют часы! Стань воздухом ты, тело,
Иль Люцифер тебя утащит в ад!
(Гром и молния.)
Душа моя, стань каплей водяною
И, в океан упав, в нем затеряйся!
Само собой разумеется, что и в Лондоне было немало гетеведов, переводчиков, спектаклей, иллюстраций и картин к «Фаусту». Все это имеется в каждой европейской столице. Но дух Лондона — не фаустовский. Герой Марлоу — сумасшедший немец, который родился в тюрингской Роде и учился в Виттенберге. Это выскочка, самозванец, опаснейший истерик. Сначала подавай ему, провинциалу, деревенщине, весь мир, а потом он же, тот, кто кичился своим презрением к попам и насмехался над папой римским, устраивает истерику и, видите ли, хочет отыграть назад. Хотя сама по себе кельтская истеричность у лондонского Фауста неслучайна, дух Лондона иной. Лондон — город большой, пролетарский и буржуазно солидный. Эта солидность — во всем, но прежде всего в лондонской готике с ее горизонталями и перпендикулярами: главный символ — Парламент архитекторов Пьюджина и Бари. Готика, которая в немецкой культурной традиции рассматривается как стиль крайностей (интимности, монументальности, пространственности), в Лондоне является основой статус кво. Хотя Фауст в Германии грюндерства, буржуазной культуры и является «столпом порядка», все-таки викторианская трактовка готического или пограничного, ренессансноготического Фауста — это нечто совсем иное. Викторианское, прерафаэлитское Средневековье спокойно и уверено в себе, как английское поместье. А дух Фауста чужд сословности, но и далек от лондонского хулиганства, субкультурности и оригинальничанья. Фауст не является ни человеком из низов, ни джентри, ни тем более сэром. Он с народом и для народа, но не с плебсом и не с вырожденцами. Фауста можно воспринять как цивилизатора, но с одной существенной поправкой: он не просто приходит и навязывает свою волю. Фауст даже в истории с Филемоном и Бавкидой думает об объекте своих усилий и хочет для него лучшего: свободной счастливой жизни. И свобода для него — не политическая форма, не юридический термин, она сущность, которую он несет в своем сердце. Лондонский Фауст Кристофера Марлоу — в этом смысле вообще не общественный деятель, каким даже против своей субъективной воли становится Фауст. Понять существенное различие между Лондоном, Британией и Фаустом можно, взвесив на весах воображения такие слова, как «парк» и «Фауст», а потом — «лес», «горы» и «Фауст».

Парма
Парма — важный город фаустовского маршрута. Фауст и Мефистофель сюда заезжали. Создатель «Кота в сапогах» Людвиг Тик заметил после поездки в Италию в 1804–1805 годах: «Пусть тот, кто не был в Парме и ее соборе, не говорит, что видел Италию». Здесь работали художники Галли Бибиена, знаменитая семья театральных декораторов и архитекторов эпохи барокко. Здесь творили Пармиджанино, специалист по амурам-подросткам, и гениальный Корреджо, расписавший купол собора сонмами ангелов. В Парме родился режиссер, поэт и драматург Бернардо Бертолуччи. Оттуда же родом и сыр пармезан, который, впрочем, не кажется нам кушаньем для фауститанца.
После падения Римской империи город назывался Хризополисом, то есть «городом золота». В 1248 году под Пармой, которой временно овладели сторонники папы римского, был наголову разбит император Фридрих II, вынужденный после этого покинуть Италию; но зато в Парме было восстановлено владычество гвельфов — сторонников императора.
Легенда и фильм Мурнау не случайно отправляют Фауста в Парму. Это был роскошный ренессансный двор: дворец, сады и фонтаны, герцогиня Пармская из рода Фарнезе…
Рим
Как известно, именно в Риме, в окружении памятников классической древности, под сенью кипарисов и платанов, Гете писал Вальпургиеву ночь. «Местность в горах Гарца, в окрестностях деревень Ширке и Эленд», прямо скажем, не слишком похожа на спокойные и величественные очертания Сабинских гор, а растительность не знает контрастов времен года. Вальпургиева ночь создавалась в дни вечного лета, и Гете вспоминал бурную северную весну:
Везде весна: береза зеленеет,
Позеленела даже и сосна;
Ужель на нас весною не повеет?
— вопрошает Фауст. Мефисто отвечает:
Признаться, мне чужда весна!
Во мне зима царит: мне надо,
Чтоб снег, мороз был на пути моем.
В ущербе месяц; тусклою лампадой
Едва мерцает красным он лучом;
Неважный свет! Здесь каждый шаг нам может
Опасен быть: наткнешься прямо лбом
На камень или ствол.
Гете ярко живописует северный горный лес:
Скалы длинными носами
Захрапели перед нами. <…>
Лес потемнел; в туман весь погруженный,
Шумит он. Вот, глаза раскрыв,
Взлетает филин пробужденный,
И ломятся колонны
Зеленого лесного дома
Кое-где в Вальпургиевой ночи встречаются слова из классического итальянского репертуара: колонны, козлы (вакхические), театр (которым завершается ночь и открывается интермедия «Золотая свадьба Оберона и Титании»), наконец, сама Гретхен приобретает античные черты. Фауст видит в ней прекрасную девушку с кровавой полосой на шее, словно это смертельно-бледная Лукреция, сошедшая с классической картины. Мефистофель поправляет: в сущности, это Медуза (античная голова Медузы из собрания Людовизи, которой восхищался Гете), и взгляд ее превращает человека в камень, а кровавый след на шее напоминает о Персее, отрубившем ей голову. Вся сцена шабаша похожа на римский карнавал с его толчеей, песнями и танцами, криками, домогательствами и грубым юмором.
Толкают, жмут, бегут, летают,
Шипят, трещат, влекут, болтают,
Воняют, брызжут, светят. Ух!
Вот настоящий ведьмин дух!
В толчее устремляющихся на шабаш ведьм есть одна, названная полуведьмой, которой никак не удается догнать остальных и приблизиться к Маммону-Уриану:
Кто кричит в скалистой нише?
Голос
(снизу)
Это я! О, возьмите вы меня!
Триста лет я здесь копаюсь
И к своим попасть пытаюсь.
Оба хора
На вилах мчись, свезет метла,
На жердь садись, седлай козла!
Пропал навеки тот — поверь, —
Кто не поднимется теперь.
Полуведьма
(внизу)
Тащусь я здесь за шагом шаг,
Другие ж вон умчались как!
Я раньше всех сюда пошла,
А все угнаться не могла.
Эта сценка — аллегория, как и все другие. По-видимому, Гете изображает здесь тщетные усилия по восстановлению чувственной языческой культуры, предпринимаемые образованной Европой со времен Ренессанса. А воз и ныне там. Не так-то легко приникнуть к древности после столетий христианства, морализма и рационализма.

Сложно рассматривать Фауста с точки зрения категории человеческого достоинства
И Фауста, и фаустианца Рим влечет неудержимо. Влекут обе его стороны: italianita и romanita. Последняя даже больше, чем первая. Такие древние римские понятия, как «сила» (Virtu) и «счастье» (Fortuna) также характеризуют фаустовское стремление.
Однако далеко не все добродетели римлян свойственны Фаусту: он лишен Frugalitas — бережливости, неприхотливости, аскетизма. Ему не свойственна важнейшая из римских добродетелей: Prudentia — рассудительность, дальновидность и спокойная проницательность. Не является его сильной стороной и Providentia — предусмотрительность, позволяющая избегать неудач и добиваться высших результатов. Он находится в крайне сложных отношениях с Pudicitia — скромностью, сдержанностью и способностью противостоять духовному разложению. Скорее всего, Фаусту не свойственно здоровье как добродетель, то есть Salus. Он равнодушен и к Securitas как воплощению безопасности, достигнутой при помощи эффективного управления (самоуправления). И тем не менее добродетели вечного города для Фауста важнее, чем легкомыслие italianita. Сложно рассматривать Фауста с точки зрения категории человеческого достоинства, так как перед ним всегда стоит вопрос: нельзя ли пожертвовать достоинством ради знания, истины?
Главный римский Фауст, конечно, барон Юлиус Эвола. Аристократ, католик, футурист, языческий империалист, фашист, критик фашизма и национал-социализма, расист, враг «современного мира», этот плодовитый и серьезный писатель, философ-традиционалист, алхимик, а также живописец и поэт, устремлялся к «олимпийскому» идеалу «естественной сверхъестественности». В его жизни было больше поражений, чем побед. В 1945 году он пострадал в Вене от советской авиабомбы и навсегда остался инвалидом. Эвола родился и сформировался в Риме, всегда с глубоким уважением относился к Германии и умер тоже в Риме. Сегодня он снова внушает беспокойство, снова смущает умы молодежи. Эвола — фигура не менее известная, чем Эко или Маркузе, Деррида или Агамбен. В тех сферах, где он присутствует (дарк-сцена, готический рок, праворадикальные движения), его старшим товарищем почти всегда выступает доктор Фауст.

Константинополь
Фауст, возможно, был в Константинополе, при дворе султана. Кажется, что ему было просто необходимо посетить Царьград. Не только из-за султана. Скорее, по причинам духовным и геополитическим. Византийский город — город власти и ее церемониала. Он манит Фауста своей противоречивостью: оплот правильной веры, симфония властей, воплощение истины на земле, ступень в небо, и вместе с тем — невиданная по коварности бюрократия, формализм, хозяйственный и моральный упадок. Фаусты и фаустианцы склонны ценить византийский стиль — этот синтез античных мотивов и восточного схематизма, стиль тяжелой роскоши и высшей степени утомления всем земным. Горькое разочарование в форме неопровержимого триумфа объективного духа, — настроение антифаустианское в принципе и поэтому для фаустов притягательное. Турецкая столица влечет их своими тайнами: как тайнами чувственности и эстетики, так и тайнами изысканного интеллектуализма. Но приобщиться к ним Фауст никогда не сможет, хотя бы даже по расовой причине. Город власти и ее церемониала.
РОССИЯ
Калининград
В России один настоящий немецкий город, и называется он Калининград. Его предшественник Кенингсберг исторически не имел к Фаусту никакого отношения. Все-таки доктор Фауст XVI века — южно-немецкий персонаж, и восточнее Виттенберга не бывал. Фаустовский дух и Пруссия соотносятся крайне неоднозначно: и есть между ними что-то общее — пресловутое стремление, дерзость, и в то же время больно тяжеловесен прусский дух. Впрочем, Фауст подобрался к Кенигсбергу довольно близко, так как в 1669 году в городе Данциге была представлена Comedia vom D. Fausto, о чем повествует Георг Шредер, сенатор данцигской ратуши. Это самое раннее свидетельство о постановке фаустовского сюжета на сцене народного театра. Была показана «бессовестная жизнь и жалкая кончина доктора», который потребовал от Плутона предоставить ему таких быстрых чертей, чтобы носились, как человеческая мысль. Особенно удалась сцена раздирания Фауста в клочья: словно это был фейерверк, сопровождавшийся скандированием на латыни — Accusatus est, judicatus est, condamnatus est, что означает «виновен, осужден, проклят».

К немецкому ордену, его монахам-рыцарям, их аскетизму и воинственности Фауст не имеет отношения. Он, как известно, персонаж ренессансный, а также персонаж эпохи Просвещения и «романтизмов». Но и Кенигсберг, конечно, город, прославленный не столько орденом, сколько своими протестантами, просветителями, мыслителями и учеными. Это вообще одна из колыбелей современности: «республика космополитов» (Мантей). Профессор Кант противоположен доктору Фаусту; с чародеями не водится и все мыслит в пределах только разума. Более того, одержим вопросом о четких границах человеческих возможностей и рассудка. В то же время гробница этого антифауста — монументальная, с классическими колоннами и одновременно египтизированная, вытянутая ввысь, как и готический собор, заставляет вспомнить о Фаусте. Эту гробницу пощадила война и послевоенная разруха, что само по себе чудо и знак свыше.
Но кроме этой общеизвестной гробницы нам удалось разыскать в Калининграде могилу настоящего Фауста. Его звали Эрих. Он родился 7 октября 1924 года и погиб 9 марта 1945-го. Он лежит в общей могиле на немецком кладбище на проспекте Александра Невского, там, где до войны был крематорий, а сейчас стоит большой крест и шумят старые деревья.
Главное в истории «Фауст и Кенигсберг» то, что Кенигсберг-Калиниград двойственен. Он находится на рубеже двух миров — этого и прошлого, но одновременно и того, что возможен в будущем. Причем таким он остается на протяжении всей своей истории.
Город вырос на месте языческого древне-прусского капища, заменил собою и впитал в себя одну из самых таинственных древних культур. Потом Кенигсберг выказал недюжинные способности к оборотничеству. В 1525 году последний магистр ордена Альбрехт взял да и сменил «вывеску», распустил орден и сам явился вместо монаха-рыцаря ренессансным герцогом, основал университет, завел искусства. Орденский дух переродился в строгие протестантские добродетели: дух обернулся долгом. После поражения от Наполеона «просветительский» Кенигсберг рококо и классицизма вдруг стал родиной самого острого немецкого патриотизма, местом, где сформировались два ультраромантика — Э.Т. А. Гофман и Захария Вернер. Здесь Фихте выступал с «Речами к немецкой нации».

Как Фауст-грешник спасен и ему обещана небесная жизнь, так и город Кенигсберг, погибнув, все же обрел жизнь новую, новое лицо и имя. Из героя трагического он стал славянином, советским человеком, красивой калининградкой, даже Калининым, самым мирным персонажем жестокой советской истории. В Калининграде, особенно весной, когда в очередной раз празднуется Победа и гибель родного Кенигсберга, возникает благословенное чувство, то, что на старом русском церковном языке называлось «благорастворением воздухов». Всюду цветы, всюду улыбки, словно и не было трагедии, и не было вины, не было гибели. После мрачной тяжелой зимы, после трагической катастрофы… Таков Калининград-Кенигсберг.
его страсть — железо, старое, политое кровью
Настоящий фаустианец обязательно ринется в Калининград и разыщет-таки «кабинет Фауста». Даже два. Первый замаскирован под кабинет режиссера-документалиста, второй прикидывается кельей офицера-аскета, одержимого реконструктора событий 1914-го. Один расположен на проспекте у самой «Зари» (шикарный киноресторан), другой нужно искать в дебрях Верхнего Хуфена, где-то на Леонова или на Комсомольской. Первый метафизичен и ультрамеланхоличен. Второй чист, суров, прохладен и высок, словно бюро молодого Фауста-военачальника. Кабинет метафизика-меланхолика — квадратная комната, стены выкрашены в черный цвет; мебель темная, на диване громоздятся иссиня-черные и, кажется, не мягкие подушки, пол и потолок аспидные, карниз мерцает «вайолетом» и серебром. Полка с книгами и черными коробочками фильмов отражается в зеркалах. Стулья железные, кованые. Окно полузакрыто черными жалюзи, потому что чересчур роскошная бушует за ним растительность: огромный каштан весной сплошь убран белыми свечками. На широком черном подоконнике, превращенном в длинный стол, царит большой, всегда светящийся мертвенным светом монитор. Словно пылающий ледяным огнем парус, этот прибор превращает весеннее окно в наваждение. Кажется, что стекла тонированы, как в шикарном черном автомобиле. Кое-где рассыпаны увядшие цветы. Хозяин, человек среднего возраста, с бледным лицом, своей ассиметрией и страдальческой складкой на лбу напоминающим то ли Гофмана, то ли Каспара Давида Фридриха, сидит в кресле перед компьютером. Очевидно, что он болен — хронически, но не слишком тяжело. На нем черная мешковатая одежда. Едва слышен хриплый голос. Гретхен, брюнетка, суетится на маленькой кухне, выходит на увитый цветами балкон и все время говорит о чем-то своем. Фауст разочарован: его собственные — талантливые — произведения не вызывают у него ничего, кроме язвительного смеха.

Иной является вторая ипостась калининградского Фауста. Коллекционер. Свеж и точен. Одинок. Прекрасно воспитан. Но его страсть — железо, старое, политое кровью. Он немного служит где-то за городом. У него много свободного времени, и в любую минуту он готов унестись вместе с вами в поля и перелески гумбинненской операции.
Оба этих человека — наши консультанты, точнее, тайные советники. На вопрос о Фаусте оба назвали имя Станислава Павао Скалича, известного также как Пауль Скалих, Скалигер, Скалихиус де Лика, выдававший себя за князя Де ла Скала, маркграфа Вероны, графа Цу Хун унд Лик. Он родился в 1534 году в Загребе и умер в 1575 году в Данциге, где и похоронен.
Скалих, типичный представитель эпохи Ренессанса, — гуманист, алхимик, последователь великого английского алхимика Раймонда Лулия и очевидный авантюрист. Он имел степень доктора теологии в Болонье, служил капелланом при дворе императора Фердинанда I в Вене. Был также каноником в вестфальском Мюнстере и вместе с протестантским теологом Иоганном Функом оказывал влияние на Альбрехта, последнего магистра немецкого ордена. В названии основного сочинения Скалиха имеется слово «энциклопедия»: Encyclopaediae, seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam prophanarum epistemon (Энциклопедия, или Компендиум теологических и профанных наук. Базель, 1559). Он также автор музыкального трактата Dialogus de Lyra, изданного в Кельне в 1570-м. Все это заставляет даже закоренелых «просвещенцев» со вниманием отнестись к «кенигсбергскому Фаусту».
В Калининграде сегодня живет и творит Вадим Храппа (родился в 1958 году), «русскоязычный прусский писатель, не скрывающий сепаратистских убеждений» (автохарактеристика). Он является автором забавной пьесы «Чужеземец. Прусская пастораль. Печальная комедия нравов шестнадцатого века в 2-х действиях». Конечно, она о Скалихе. Интригует перечень действующих лиц: Пауль Скалих, 27 лет, энергичный брюнет. Стаси, лет 20-ти, демонически красива. Князь Веронский, 30 лет, образован, циник. Трактирщик, огромный, толстый, усатый. Герцог, старый, усталый алкоголик. Анна Мария, его вторая жена, герцогиня, некрасива, истерична. Секретарь, немолод, бесконечно предан Герцогу. Доктор Штой, придворный врач, средних лет, решителен. Волк, здоровенный ленивый мужик, заросший шерстью, ходит на четвереньках.
Скалих был приглашен в Кенигсберг в 1561-м. К неудовольствию других профессоров он читал студентам лекции, в которых главенствовавшей тогда философии Аристотеля противопоставлял учение Платона. В теологических спорах он занимал сторону Андреаса Озиандера и считал, что оправдание происходит не только посредством слова (слова Христа и слова проповедника), но и на самом деле — как «вливание» Благодати в грешника, который становился по-настоящему обоженным. Кстати, такое понимание довольно близко к православному.
Почитаем газету «Гурьевский вестник», один из лучших исторических источников по Фаусту калининградскому, гурьевскому и славскому:
Существует предание, что именно Пауль Скалих избавил Альбрехта от присущей многим правителям-реформаторам вредной привычки — пьянства. При помощи странного медальона, якобы даже сохранившегося до наших дней. На одной стороне его выгравирована надпись «Параграф 11», что у средневековых знахарей означало диагноз алкогольного безумия. На другой изображен кот с рогатой головой черта, сидящий на бочке, возле которой лежат два человека. Вскоре поползли нехорошие слухи о колдовстве, творившемся в стенах Нойхаузена (ныне Гурьевска), где проживала молодая жена герцога, и о легионах разнообразной нечисти, которой Скалих вроде как наводнил окрестности. Не меньше беспокойства окружающим доставлял и единственный сын герцога — душевнобольной Альбрехт Фридрих. По причине умственного расстройства наследник был отстранен от власти и тратил уйму времени, охотясь на зайцев. И все бы ничего, да только другим объектом охоты Альбрехта Фридриха были молоденькие сельские девушки, которым он, как многие утверждали, перерезал горло. Так Нойхаузен приобрел зловещую, истинно «готическую» репутацию. Ненормальный Альбрехт Фридрих не был гордостью своего отца. Нерастраченная отеческая любовь престарелого герцога изливалась на Скалиха. Герцог пожаловал ему родовой титул и замок в Кройцбурге (ныне поселок Славское). Ради своих оккультных исследований знаменитый маг и чародей выписывал под гарантии казны векселя на огромные суммы. Деньги, якобы потраченные на магические опыты, исчезали и впрямь как по волшебству. Это стало причиной глубочайшего экономического и политического кризиса в молодом герцогстве. Скалих активно стравливал сподвижников герцога между собой, стремясь добраться до самых вершин государственной власти, за что и поплатился, будучи обвиненным в колдовстве. Он укрылся в замке Нойхаузен, где всегда мог рассчитывать на хороший прием. Однако вскоре пришлось бежать и оттуда. По слухам, Скалих покинул замок то ли спрятавшись под сиденьем кареты одного из приятелей, то ли улетев на «крылатом плаще», то ли пробравшись по подземному ходу, который и ищут по сей день. В 1568 году в замке Тапиау (ныне городок Гвардейск) скончался первый герцог Пруссии Альбрехт. Возможно, он прожил бы дольше, если бы эксперименты мага в области спиритизма не вызвали у впечатлительного герцога кровоизлияния в мозг. Через шестнадцать часов после этого в замке Нойхаузен скончалась и герцогиня Анна Мария. Шестнадцати часов более чем достаточно, чтобы проскакать верхом из Тапиау в Нойхаузен. Этим путем вполне мог воспользоваться убийца — слишком многих влиятельных лиц Анна Мария как регентша при душевнобольном наследнике не устраивала. Нашлись и те, кто заподозрил в возможном убийстве Пауля Скалиха, будто бы ради этого тайком вернувшегося в Нойхаузен.
С именем Скалиха связана и еще одна леденящая кровь легенда. Каждое новолуние в полночь на дороге показывалась процессия, состоящая из четырех повозок, запряженных четверками лошадей. В первых двух ехали двенадцать монахинь в орденском платье, с крестами и четками в руках, но без голов. Кучерами у них были белые ягнята. Следом двигались две повозки с двенадцатью безголовыми рыцарями. Вместо кучеров здесь были черные козлы. Процессия въезжала в город, потом на рынок, трижды объезжала его и исчезала в воротах ратуши. В течение часа оттуда доносились взрывы грубого хохота, разухабистая музыка и визгливое женское пение. Затем повозки покидали город, но в обратном порядке. На закованных в латы плечах рыцарей покоились женские головки, а на монахинях были шлемы с закрытыми забралами. Трижды объехав площадь, они удалялись по замковой дороге. Это происходило из века в век, регулярно, вплоть до праздника Троицы в 1818 году, когда и ратуша, и почти все дома на городской площади сгорели. В следующее новолуние рыцари и монахини вновь появились, но, покружив по городу и не найдя себе приюта, покинули его. Замок пришел в упадок еще в конце XVI века. В одной из его стен, в нише, будто бы нашли замурованное существо, похожее сразу и на человека, и на волка. Ходили слухи, что Скалих воровал в окрестных селах детей, чтобы «выцеживать» из них кровь для своих дьявольских алхимических опытов. От замка все еще остается фрагмент стены, кое-где просматриваются фундаменты. Но разборка крепостных стен на кирпичи продолжается. В районе форбурга сейчас размещается кладбище…4
4 По статье М. Фельдмана в «Гурьевском вестнике».
Областная печать и Интернет постоянно снабжают нас новыми материалами о Скалихе-Фаусте. Вот одно из недавних сообщений:
Однажды бухгалтер передвижной механизированной колонны, что базируется в замковых стенах, допоздна засиделась на работе. В тот вечер, как это часто бывает, луна светила особенно ярко. На позеленевших от времени кирпичных стенах дрожали тени… Вдруг женщина услышала скрип — как будто где-то в коридоре открылась дверь. «Собака, что ли, забралась», — предположила бухгалтер. Она вышла в коридор и никого не увидела. Прошла минута, и скрип повторился. Женщина вздрогнула. Снова выходить в коридор она не решилась, почувствовав, что тут нечисто. Когда же откуда-то из глубины замковых коридоров раздались женские всхлипы и кошачье шипение, несчастный бухгалтер, бросив свои бумаги, кинулась наутек. Когда она выбегала на улицу, то краем глаза успела увидеть огромного черного кота, который во весь опор несся следом за ней по темному коридору. Верхом на коте восседала бледная женщина в красной накидке, отороченной золотом; должно быть, это была скончавшаяся в замке герцогиня.
По легенде, Скалих предсказал будущее Восточной Пруссии на тысячу лет вперед. По странному недосмотру Россия в его предсказаниях не фигурирует.

Вильнюс
Не Вильнюс, а Вильно! Там жили евреи, поляки, литовцы — все, кому полагается. Бывал там и «польский Фауст», пан Твардовский. Не исключено, что именно он скрывается под именем Томаша Жебровского (1714–1758), астронома и математика, профессора Академии виленского Общества Иисуса, создателя и архитектора обсерватории в Вильно, четвертой по счету в Европе. Правда, Твардовский якобы жил в XVI веке, а Жебровский — в середине XVIII. Но это не столь важно. Достаточно войти во двор обсерватории, чтобы ощутить присутствие всех троих — Жебровского, Твардовского и доктора Фауста. Несмотря на высокую точность инструментов, наука середины XVIII века была еще вполне барочной. Она искала законченной картины мира, наглядности и представляла собой риторический театр Истины. Наука Фауста стремилась вперед, в ней уже чувствовалось дыхание Просвещения. Но вернемся к Твардовскому и к Вильно как фаустовскому городу.
По легенде, пан Твардовский происходил из благородного рода и жил в Кракове. Скорее всего, за этой фольклорной фигурой стоит реальная историческая личность: Лаврений Дур, немец, который родился в Нюрнберге, учился магии и алхимии в Виттенберге и в 1565–1573 годах находился при дворе польского короля Cигизмунда II. Вероятно, что фамилия Твардовский является переводом на польский латинского «дурус» — твердый. Иногда пана Твардовского называют также «мастер Твардовский», подчеркивая его ученую степень и владение науками и искусствами. Самое главное чудо Твардовского-Фауста — то, что он по просьбе вдового короля вызвал дух польской королевы Барбары Радзивилл. Барбара принадлежала к знаменитому белорусско-литовскому роду, считалась самой красивой женщиной Европы середины XVI века, родилась в Вильно и похоронена в местном соборе. Выйдя замуж за короля, она вызвала неудовольствие его матери Боны Сфорца и, вероятно, была отравлена. Твардовскому удалось показать ее безутешному королю живою с помощью зеркала, которое до сих пор хранится в Мазовии, в городке Вегрове. Это зеркало также показывало будущее. Последним, кто заглянул в него, стал император французов Наполеон, отправлявшийся в свой русский поход. Зеркало предсказало гибель великой армии, Наполеон рассердился на зеркало и разбил его.

В Польше, Литве и Белоруссии существует много связанных с польским Фаустом мест. В городе Олькуш Твардовский якобы собрал все серебро Польши и заложил шахту. Около Кракова, в национальном парке, показывают скалу, которая стоит остроконечной вершиной вниз: так ее поставил дьявол по приказанию Твардовского. Ее называют «мачуга (палица) Геркулеса» и «чарчья скала». В другом месте близ Кракова имеется кратер, который будто бы образовался от взрыва в подземной лаборатории Твардовского.
Подписывая с чертом договор, чернокнижник сделал в нем приписку о том, что дьявол имеет право забрать его только в Риме, куда Твардовский вовсе и не собирался; так что алхимик довольно долго водил нечистого за нос. Только когда по невнимательности мастер заглянул в таверну «Рим», находящуюся в малюсеньком городке у подножия Бескидов, черт предъявил свои права. Перед смертью Твардовский начал усиленно молиться Деве Марии, и та действительно освободила его из лап дьявола. Благодаря пани Марии он попал не в ад, а на Луну, где и находится в полном одиночестве, если не считать паука, в которого он превратил своего слугу. Время от времени паук спускается на Землю и приносит Твардовскому новости.
Фауст проступает там, где готику прикрывает барокко, а из-под готики выглядывает Древняя Русь.
Твардовский — фольклорный персонаж, но к нему нередко обращались и писатели: поляки Адам Мицкевич (в юмористической поэме «Пани Твардовская») и Йозеф Игнацы Крашевский, украинец Семен Гулак-Артемовский. Удивительно, но и русский просветитель, автор «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев (в стихотворении «Алеша Попович, богатырское песнотворение», 1801) выводит образ Твардовского. В XIX веке его хорошо знали меломаны: в 1828 году появилась опера Верстовского на либретто Михаила Загоскина, в 1869-м знаменитый Монюшко написал на слова Мицкевича кантату «Пани Твардовская».
В Вильно всегда было много евреев, не зря его называют «Северным Иерусалимом». Там, где евреи — ищи Фауста, если не на основании сходства и неполной взаимной симпатии, то на основании отталкивания. В Вильно показывают древний еврейский двор, гетто, прямо рядом с лютеранской немецкой церковью. В этом дворе якобы был создан Голем, и можно даже увидеть его изображение. Где Голем, там и Гомункул. Где Гомункул, там и гений — или Гаон. Виленский Гаон, иначе говоря, Элияху бен Шломо Залман родился в 1720 году в городке Селец Брестской области, умер в 1797-м в Вильно. Он был раввином, каббалистом и общественным деятелем, одним из выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства. Среди его потомков — петербургский издатель Илья Эфрон («Брокгауз и Эфрон») и израильский политический деятель Биньямин Нетаньяху.
Но почему городом фаустианских фантомных ощущений стал не более суровый Каунас, не готические Рига и Талинн, а именно Вильно? Объяснить это сложно. Рига и Талинн — одноплановые торговые ганзейские города с угро-финской подкладкой. А Вильно с его картинностью, загадочностью, шармом, смешением языков и культур — город языческий и город еврейский, город православный и город католический. Фауст обретается не там, где господствует прямая линия, а там где присутствует интрига. Это не персонаж готического стиля (потому он и не проживает в лондонском парламенте и равнодушен к кельнскому собору). Фауст проступает там, где готику прикрывает барокко, а из-под готики выглядывает Древняя Русь. Духу Фауста не нужны монументальные декорации (снова Кельн или Реймс), его темное дело вершится в узких переулках.

Петербург
Есть география Фауста и есть география фаустианцев. Они существенно различаются. К фаустианским городам можно отнести Мюнхен, Париж, Рим или Москву. К фаустовским городам относится Петербург, хотя никакого средневековья-ренессанса в нем нет. Это город Нового времени, город, созданный в эпоху Просвещения. Но и Фауст — фигура, обретающая остроту вместе с подъемом Просвещения, а Гете и вершина, и обрыв Просвещения (понимаемого как программа освобождения человека от суеверий).
Петербург — уже чисто климатически город Фауста: сырой, холодный, близкий к воде, он стоит на болоте, на дне доисторического моря. Петербург — узел противоречий: устремлен на Запад — и стоит скалой против Запада; мечтает о Юге — и несет дыхание Севера.

Петербург — всегда Триумф, но и всегда пиррова победа
Петербург рожден диким усилием воли молодого царя, алкавшего власти, в том числе и прежде всего — над самой природой русского человека. Весь его проект построен на принципе «вопреки»: вопреки природе и традиции. Дамбы, каналы, мосты, регулярная планировка, строгий бюрократический контроль — все это перекликается с «Фаустом», о чем подробно писал М. Эпштейн. Чтобы почувствовать фаустовскую атмосферу Петербурга, нужно посмотреть, как намывают новый порт на взморье, слетать на вертолете в Усть-Лугу или хотя бы глотнуть кронштадтского ветра. Не можешь — научим, не хочешь — заставим: таков фаустовский принцип Петербурга. В нем есть что-то насильственное, военное, аскетическое. Родившись как порт и военная база, путем отвоевания земли у моря, Петербург сгоняет с насиженных мест своих чухонских филемонов и бавкид, которых не удалось вытравить; потом отрицает, сгоняет с насиженных мест своих бар, потом теснит интеллигенцию… В XX веке Петербург опять заселяют приезжие, он превращается в провинцию и вновь его заносит песком. Петербург — всегда Триумф, но и всегда пиррова победа: триумф государства и неистребимость маленького человека, который в конце концов поднимает восстание и вырастает в тирана. Площадь Урицкого, улицы Толмачева и Желябова, девять Советских улиц, улица Счастливая, Сиреневый бульвар.
В центре города — крепость-тюрьма, порт, Кунсткамера. Кунсткамера выглядит как настоящий дворец, это башня Фауста. Именно с башни Кунсткамеры, от Готторпского глобуса «наш Фауст» наблюдает за прибытием кораблей «с тремя сильными», видит прибрежные болота на горизонте: всюду недоделки… Русский Фауст № 1 — это Петр на скале. В Петербурге он многолик: Петр с топором, Петр на коне, Петримператор и, наконец, Петр-скелет и манекен в крепости. В тюрьме на острове сидят наши Гретхен — соблазненные иноязычными словами и свободой, беременные революцией — писатели, революционеры, смутьяны. Там же княжна Тараканова с крысами…
Петербург осужден. Петроград осужден. Ленинград осужден. И — все спасены! Вот Ленинград окружен немецким страшным войском, задушен в блокаде, но — спасен, не разрушен, восстановлен, прославлен… Не может сдаться, хоть и хотелось бы, хоть бы и финнам. Не может смириться с эпизодической ролью, хоть и выгодно. Не носит звания ни «северной столицы», ни «культурной», так как он столица и есть. Не может стать Петербургом «снова», так как он уже был Петроградом-Ленинградом, и вот стал Питером. Да вот неможется ему на вторых ролях, простым человеком, своим парнем. Фаустовский проект — и никакой иной. «Коридор петровских коллегий бесконечен, гулок и прям…»

Горный институт встречает корабельщика в устье Невы. Институт докембрия, Зоологический музей: там шевелится гетевское и фаустовское начало. В Петербурге начинается тоннель к центру Земли (место входа тщательно законспирировано), к Матерям. Потому и мамонт сибирский на стрелке В.О. проживает. Метро глубокого заложения тоже в Петербурге. Каждый день спускаются люди на дно моря, под Неву, идут и едут руслами подземных рек. Все в песке и тине, мрачно, вязко. Случаются наводнения. Сфинксы — петербургские скалы, как и Александрийский столп, и Исакий, и Гром-камень. Сфинксы — герметика, химия, жар искомого юга.
Санкт-Петербург по замыслу отца-основателя — город администрации и науки: город Академии наук, институтов, лабораторий, но без фаустовщины. Столица сухой немецко-русской премудрости и университет как позитивистская казарма, а не рассадник свободомыслия. Никакого Фауста и Мефистофеля уставом не предусмотрено! Их и не было. Фаустовский город, конечно, не может не быть обителью книжных червей. Библиотек всегда было много — царя Петра, Радзивиллов, Академии наук, Публичной (с настоящим «кабинетом Фауста», заставленным инкунабулами), Румянцевского музея (ныне в Москве, библиотека им. Ленина), Университета, Политехнического института… Но пестрой антикварной, книжной жизни нет, как нет и живописной студенческой жизни, пивных, дуэлей. Все ходят послушные или прибитые. Соблазняются только крайними предложениями, и то если они идут из Москвы.
Русская пародия на Фауста — ученый бородатый старец Менделеев со своей квартирой в темном нижнем этаже университета, где он открыл таблицу и составил рецепт водки. Другая — Иван Петрович Павлов, живший на даче, в зелени, в Колтушах (прихожанин Знаменской церкви) и использовавший «пуделя» гораздо скромнее, чем Фауст. Третья — Вернадские, один попроще, другой погениальнее, с козлиной бородой и биосферой, очень мирный ученый, орденоносец, породил много сфер, от ноо- и семиосферы до блогосферы. Еще Сахаров, который хотя и не петербуржец, сподобился памятника напротив Академии наук: кающийся дух водородной бомбы поднимается к небу — что-то вроде испарения-вознесения.
Главные петербургские открытия отнюдь не ужасны: ломоносовский «закон сохранения вещества», «периодическая таблица» — утренний сон Менделеева, радио Попова, подводная лодка Якоби, каучук Лебедева. Антинаука и псевдонаука, включая и гуманитарные науки, в Петербурге всегда были слабо развиты. Ни единого кудесника, чернокнижника! Зато какой интерес к церебральной сфере! Здесь и обвинение в псевдонаучности легче заработать, как это случилось с глубокоуважаемой Натальей Бехтеревой. Психология, неврология, физиология, психиатрия, когнитивистика — все петербургское, и, в общем-то, не фаустовское. Он-то ведь физик, химик, географ, геолог, зоолог. И все-таки Павлов, Бехтерев, Ухтомский, Герасимов тоже где-то здесь обретаются, лезут в самое-самое! Традиция большая, основательная, хорошо укорененная в местной почве. О «Пряжке» (где и художники, и поэты, и музыканты перебывали) нельзя забывать. С 1872 года эта больница носит имя Святителя Николая Чудотворца. Устав заведения, составленный доктором Оттоном Чечотом, гласил: «Исправительное заведение для лиц предерзостных, нарушающих благонравие и наносящих стыд и позор обществу». Вот причина, чтобы поместить на Пряжку мужчину: «неплатеж налогов и упорное пьянство». А вот чтобы женщину: «брошенный ребенок, обращение непотребства в ремесло, самовольная отлучка из дома и развратная жизнь, неповиновение родительской власти, самовольное открытие бордели, дерзкое обращение с мужем». Так что Гретхен, Соня — потенциальные пациентки. Одним из основоположников отечественной психиатрии был Виктор Хрисанфович Кандинский (1839–1889). Сам из Сибири, внучатый племянник известного русско-немецкого художника-абстракциониста Василия Кандинского. С 1881 года до конца жизни состоял ординатором психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца. В Петербурге он работал над главным трудом своей жизни «О псевдогаллюцинациях». После самоубийства Кандинского в 1889 году его вдова Елизавета Карловна Фреймут-Кандинская забрала рукопись и издала ее за свой счет, после чего тоже покончила с собой.
Петербург кажется немецким городом, но все по мелочи: ни одного гения, ни одного злодея, ни одного фауста.
Не все в Петербурге безумцы или преступники, хотя таковых полно: основатель города, цареубийцы XVIII–XX веков, Раскольников, ВЧК-ГПУ-НКВД — да и нынешних достаточно. Смертоубийство в Петербурге — основная тема. Тематика вины и возмездия, вины и прощения… Сам себя человек душит и мучит, сам, хотя и не без помощи со стороны Мастера утонченного убийства, — душу свою убивает, на старуху руку подымает, юродивого топит, революционного жида стреляет, своих граждан в могилу сводит. И так от Ивана Карамазова до Моиссея Урицкого и до…
Петербург — город путешественников: Крузенштерна, Беринга, Миклухо-Маклая, Конюхова и многих других. Все путешественники — племянники Фауста. Истинный петербуржец — географ и рвется из города! Да хоть бы и в Шуваловский парк, на церковь готическую, романтическую посмотреть, или в Лахту, мимо бурятской буддийской пагоды. Потому и евразийство — чисто петербургское учение.
Старообрядцы говорили, что Петербург — город Антихриста. Выяснилось другое: Петербург — город революции, коммуны, нашедший свою пятиэтажную судьбу. Елена и Афродита покинули Петербург еще до войны («Елена» Рубенса и «Венера» Тициана). Ненадолго воцарился «авангард»: Татлина (башни), Филонова (аналитика трупов), Малевича (черного квадрата), Мейерхольда (гения режиссерской воли), Хлебникова (доморощенного числителя-меланхолика), Хармса (666). Потом все как-то заволоклось пылью и измельчало. Елена и Венера, как их ни звали, не вернулись.
На общем российском фоне Петербург кажется немецким городом, но все по мелочи: ни одного гения, ни одного злодея, ни одного фауста, разве что Унгерн-Штернберг. В 1914 году выгнали немцев. Потом Романовых, родственников Вюртембергов и Гогенцоллернов. Главные петербургские немцы — русские. Впрочем, жил в Петербурге один выдающийся немец — Леопольд Энгель (1858–1931) — актер, оккультист, теософ, возродивший орден иллюминатов.
Петербургская Гретхен зовется Лизой. Обманывает ее пушкинский Германн, полунемец. Лиза мучается не меж колоннами церкви, а на мостике с видом на крепость. Но место дьявольское, соблазнительное и страшное, открытое и ветреное, а в то же время тесное и крутое. Недалеко и Мошков переулок, где один из русских Фаустов обретался, — князь В.Ф. Одоевский.
История освоения русскими «Фауста» началась в Москве, еще в середине XVIII века, когда «голландский кунштмейстер» Сергер объявил,
что он только один месяц здесь пробудет и, между тем, по-прежнему в Немецкой слободе в 1761 году в Чоглоковском доме, ежедневно, кроме субботы, штуки свои с Цицероновою головою и другие новые показывать будет, если хотя десять или двенадцать человек зрителей будет. Сверх же того, будут у него представляемы разные комедии, например о Докторе Фаусте, большими двухаршинными куклами, которые будут разговаривать и прочее. Такоже и ученая его лошадь будет по-прежнему действовать5.
5 Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси.
А вот переводческая работа по Фаусту началась и продолжалась в Петербурге. Здесь жили Пушкин, автор «Сцены из Фауста», Грибоедов, первый автор перевода «Пролога в театре», Струговщиков, переводами которого «упивался» Белинский, Губер, похороненный на Волковом кладбище, Холодковский, служивший в Военно-медицинской академии и Ларинской гимназии, Константин Иванов, воспитатель царских детей и учитель в Николаевской гимназии Царского Села.
Не следует забывать, что Петербург — это город антифауста Обломова. Деянию он противопоставляет бытие и созерцание, но живет в самом центре суетного Петербурга, на Гороховой, пока не переезжает, наконец, на окраину, на Выборгскую сторону, которая в XIX веке отчасти походила на деревню.
И все-таки именно Петербург — фаустовский город. Город и есть Фауст. Город, а не отдельные исторические и литературные герои. Они-то как раз ближе к квази- и анти-фаустам. Слишком много литературоведов и вообще всяких «ведов» (Жирмунский в квартире на Загородном), уютно занимающихся исправлениями переводов и комментариями к комментариям. Они с удовольствием устроились в культуре, которая кажется им совершенно бесконечной, несмотря на то что уже Фауст чувствовал и понимал: есть трещина. Сам же город, его физиогномика и гений места, обладает двумя характерными фаустовскими чертами. Первая — неудовлетворенность и тревога, вторая — порыв к совершенству и истине. Петербург, как и Фауст, — честный персонаж, честный перед самим собой. Он слышит и знает свой суровый внутренний голос. Основное в Фаусте — это война против «как бы», против философии условного и относительного. Против как бы знания, как бы науки, как бы любви, как бы красоты, как бы власти. Ему подавай настоящее, не приблизительное. Петербург также осознает свою изначальную и перманентную вину перед индивидуальным человеком, перед живой природой, перед собственной страной, перед естественной человеческой историей. Он растоптал не одну Гретхен и породил немало чудовищ, выглядящих, как ангелы, поэтому, может быть, он так стоически умеет переживать свои черные дни. Волевой порыв Петра и волевой порыв «черни» (в пушкинском смысле) — оба демоничны и оба порождены суетной революционной стихией. Петербург знает об этом, видит себя в собственных зеркалах. Что будет с Петербургом теперь, после всего, что с ним произошло по части тщеславия, лжи и амбиций, пока не ясно. Он еще не спасен. Это Фауст in progress. Но есть надежда, что впереди у него не антикварное и не сувенирное существование, а следующая жизнь, которая будет дана за честность.

Харьков
При чем тут Фауст? Как, разве Вы не знаете…
Харьков — город южный, мягкий, неопределенный. Он и украинский, и южно-русский, и малороссийский, и слобожанский. В 1916 году петербургский журналист П. Пильский писал:
В России есть разные города: умницы и дураки, красавцы и уроды, старики и младенцы. Но в России есть только один город-неопределенность. Это город Харьков. Харьков не знает ни рек, ни гор, ни холмов, ни долин, ибо у него есть горки, речушки, долинки — все небольшое и опять все неопределенное. Типичность — черта не харьковская, ибо все слизано, поубавлено, уменьшено, и, кажется, весь свой костюм это мистическое существо носит с чужого плеча6.
6 Цит. по: Кравченко В.В. Харьков/Харькiв: столица Пограничья. Вильнюс: ЕГУ. 2010. С. 207
Фаустовский дух тянется вообще ко всякой неопределенности, любит ее и преодолевает — иногда ценой насилия. Фауст и дюны… Фауст и облака… Фауст и Вечная женственность… Фауст и мгновение… «Остановись, мгновенье, ты прекрасно…» — подразумевает, с одной стороны, определенность ощущения прекрасного, которой ищет Фауст, но, с другой стороны, это ощущение не дано Фаусту именно оттого, что длящееся наслаждение как таковое является в форме колебаний в потоке неопределенных и даже взаимоисключающих нюансов, радости-страдания, света-тени. Харьков — мягкая, притягательная, богатая возможностями неопределенность…

«Малороссийские Афины», Харьков — это город знаменитого университета, «нашей Саламанки», как писал профессор Д.И. Каченовский. Харьковский университет вряд ли можно назвать плодом малороссийской почвы. Хотя и был в конце XVIII века замечательный местный мудрец, философ, поэт и музыкант Григорий Саввич Сковорода, по прозванию «украинский Диоген», весь дух города не университетский. Университет — порождение имперского бюрократического духа — был задуман полупетербургским человеком из окружения Александра I Карамзиным. Университет, основанный в 1805-м, сначала заполнили иностранцы, среди которых было много немцев. Может быть, они, а также поляки косвенно повлияли на возникновение «харьковского романтизма» (Г.Ф. Квитка, П.П. Гулак-Артемовский, И.П. Котляревский, И.И. Срезневский и др.), впрочем, жидкого и туманного. Университет прославился больше именами гуманитариев, языковедов и историков культуры, чем разного рода «физиков». (А.А. Потебня, Ф.И. Шмидт и мн. др.).
В 1905 году в городе открылось германское консульство. Через год его посетил известный немецкий скульптор-экспрессионист Эрнст Барлах, брат которого уже много лет работал в Харькове инженером. Для Барлаха Харьков — это Россия, русская степь. Переживание бесконечного пространства разъезженной степной дороги и образ одинокого человека в степи подтолкнули немецкого художника к основным для него темам и формам.

Харьков — город, как известно, большой, даже очень большой, богатый, интересный и многоплановый. Его судьба тесно связана с самыми болезненными российскими вопросами — имперским, региональным и национальным. А также с вопросом о свободной интеллигенции, свободной от решения того или иного из вышеперечисленных вопросов. Харькову доводилось быть и столицей Украины (с 1919 по 1946 год), и мощным военно-промышленным комплексом, и научным центром. В довоенный период Харьков подвергся решительным преобразованиям, изгнавшим из него «благорастворение воздухов» и превратившим город в вонючий промышленный центр тяжелого машиностроения. В 1926–1928 годах центральная площадь города — площадь Дзержинского — была застроена громадным ансамблем конструктивистских зданий Госпрома, так что американский писатель Т. Драйзер обмолвился об «украинском Чикаго». Тогда же в Харькове появился институт теоретической физики, где работали Л. Ландау, А. Ахиезер, А. Иоффе, А. Вальтер. В Харькове впервые в СССР было проведено расщепление атомного ядра.
Погоня за прекрасным мгновением растягивается в бесконечный жизненный проект.
Харьков в местном понимании не только зеленый, спокойный город, это также «город греха», усваивающий всю и всяческую мерзость, и этим он резко отличается от умиротворенной округи. Современный, модернистский, коммунистический Харьков — несомненно, фаустовский образ. И по сей день Фауст в Харькове вступает в борьбу с пространством и временем. Огромная площадь Дзержинского, ныне Свободы, не поддается оформлению, так она велика, силами архитектуры даже сталинского масштаба. Пространство Харькова дискретно и неоднородно, скривлено и многомерно. То же самое здесь происходит и со временем, которое одновременно стоит на месте, как лужица, и несется во весь опор, как конь, и, самое главное, тянется, как резина. Все проекты здесь долгоиграющие, что вообще-то, как показывает Гете, близко Фаусту — все-таки он не Дон Жуан и тем более не Казанова. Потому и встречает его облачко Гретхен и на Брокене, и на небесах. Погоня за прекрасным мгновением растягивается в бесконечный жизненный проект. Антиструктурность харьковского хронотопа только подстегивает Фауста к тому, чтобы осесть в переулках Сумской улицы.

Москва
Москва — столица нашей Родины, и уже только поэтому главный город фаустовской темы в России. Сами посудите, куда отправились бы Фауст с Мефистофелем, если бы их занесло в Россию? Конечно, в Москву, ведь Петербург — это город, который является местоблюстителем их духа. Потому и нет там места Фаусту. Доктор связан с Москвой такими же невидимыми, но тесными узами, как с Константинополем и Римом, как с Парижем и Иерусалимом (последний сюжет — особая задача для фаустологии). Москва для Фауста — это сердцевина великого царства, его главный кроветворный потрох. Какое искушение познать невиданную московскую роскошь и утонченное московское коварство, смешанное с беспредельным очарованием искренности, познать строгий стиль византийской культуры и монгольскую силу власти. В Москву, только в Москву!

Фауст как гуманитарий (а среди «физиков» он самый большой «лирик»), несомненно, славист. Его научный руководитель г-н Х сидит в Марбурге в «Институте Гердера». Его командировка оплачивается, без сомнения, фондом «Цайт». Он изучает Достоевского или обсценную лексику 50–60-х годов. Изучает страстно. Влюблен в московскую еврейку, у которой дача в Переделкино. Но, может быть, он специалист по сельскому хозяйству, восхищающийся грандиозностью российских природных богатств, и послан Институтом Osteuropa-Forschung in Koenigsberg i. Pr.; ученик Теодора Оберлендера, финансирован Фондом Конрада Аденауэра (анахронизм намеренный, ведь фаустовское время нелинейно).
Фауст уважает человека, и особенно притягивает его человек другой, очаровательный, свободный от его собственных «заморочек»
Два слова об упомянутых учреждениях и людях. Оберлендер — интереснейшая фигура ХХ века. Доктор сельского хозяйства, специалист по Литве и России, национал-социалист, после войны христианский демократ, консультант Оберкоммандо Вермахта в Кенигсберге. В 30-х годах возглавлял Кенигсбергский институт восточно-европейской экономики. Часто и подолгу бывал в России, к которой относился с большим уважением. Стремился улучшить русское землепользование и сельский быт… с помощью немцев. Не разделял недальновидные расистские представления о славянах как недочеловеках; прекрасно говорил по-русски, знал русскую и украинскую культуру, после войны стал министром изгнанников при Аденауэре (по вопросу о бывших немецких восточных территориях). В 1960-м в результате политического процесса был приговорен в ГДР к пожизненному заключению как военный преступник (приговор отменили в 1993-м). Ушел в отставку; занялся политической публицистикой крайнего правого крыла; резко выступал против недальновидной политики открытых дверей для гастарбайтеров с Востока. «Цайт» — демократическая газета и фонд в Гамбурге, основанные графиней Марион Деннхоф, утратившей свои имения под Кенигсбергом. Фонд способствует исследованиям восточно-европейской истории, направленным на поддержку «модернизации».
Фауст, как известно, человек превосходного образования, высокой культуры и прекрасной души. Россия, Москва для него — чудо, загадка, прелесть; но оставить ее такой, как есть, он не может. Ему хочется помогать, советовать, учить, хочется строить и… руководить. Будучи натурой глубокой и возвышенной, Фауст уважает человека, и особенно притягивает его человек другой, очаровательный, свободный от его собственных «заморочек» (славист Фауст «тащится» от таких слов — он же не какой-нибудь «бильдунгсбюргер»). Типологический «сверхчеловек» Фауст ищет встречи с «недочеловеком», всячески деконструируя оба термина, рвется сразу по двум направлениям: он как никто ценит локальность и устремлен к глобальности.
Скорее всего, доктор Фауст побывал в Москве еще в XVI веке и участвовал в строительстве церкви Вознесения в Коломенском. Без его русских учеников не обошлось и возведение церкви в Дьякове. Не исключают возможность его пребывания в качестве консультанта в Александровой слободе — может быть, по вопросам разбора древних рукописей из библиотеки Софии Палеолог. Во всяком случае, эпоха и фигура Иоанна IV заставляет фаустианца чуять свое, вглядываться в постройки, читать соответствующую литературу и стремиться туда, где правил великий и ужасный царь. В Иван-город на Нарве, стоящий супротив замка немецкого ордена, в город Цесис-Венден в Эстонии, в Вологду к стенам Софийского собора, в Иосифо-Волоколамский монастырь, в Казань.

Москва большой, очень большой город для Фауста. Но в то же время его радиально-кольцевая структура и множество переулков и закоулков — как раз то, что ему нужно. В Москве Фаусту обязательно найдется уголок. Здесь не все на виду. Но и от самых глубоких укрытий подчас рукой подать до кремлевских палат. Кстати, фаустианец любит смотреть на Кремль, его полуготические, полуренессансные башни, увенчанные масонскими пентаграмами.
Москва — город всемирный, до всего ей есть дело, всем она занимается. Здесь Восток сходился с Западом задолго до «западничества» как такового. Все здесь известно, и для всего найдется особенный человек. При этом энциклопедическая Москва поверхностна и глубока одновременно. Сила ее и слабость в любомудрии, тянет ее к себе все сложное и желательно заграничное. Она завалена книгами и производит оные без счета. Ее цель — синтез: «Славяно-греко-латинская академия», университет, большая (советская) энциклопедия, сто первый научно-исследовательский институт. В этом сказывается московская ненасытность, жадность до знаний, желание сказать словами обо всем. Где-то здесь есть место и Фаусту, но, скорее, как слову, как строчке, как картинке, как костюму из мировой истории.
Над Москвой с пятидесятых годов высится гигантский храм всемирного знания — языческая башня Московского университета, символ прогресса. Этот университет всегда был рассадником либерализма, масонства, прогрессизма. Целый город, своя цивилизация, особая порода людей. Фауст с Мефистофелем любили Воробьевы горы еще до возведения университета. Их предшественниками были Герцен с Огаревым и архитектор Витберг с его проектом храма-памятника победе над Наполеоном в форме гигантской классицистической чернильницы. Позднее в Вятке, куда архитектора сослал Николай I, был построен храм Александра Невского, стиль которого представлял собой сочетание греческих, египетских, византийских и готических элементов, — энциклопедию. Нетрудно догадаться, что отношение Фауста к храмам науки, мягко говоря, скептическое. В то же время не исключено, что здание Московского университета представляет собой своеобразную мефистофельскую трактовку триумфа свободного познания на основе триумфа свободного народа на свободной земле.
Фауст — бренд старинный, проверенный и пока еще неизрасходованный
Рассматривая Москву как пухлую энциклопедию и компиляцию всемирного знания, нельзя упускать из виду, что именно из-под душного московского одеяла время от времени вырывались протестные силы, требовавшие свежего воздуха правды. Петровский порыв рожден Москвой, Петербург есть бессильное сновидение Москвы, бессильное для Москвы как таковой и потому ее раздражающее. Молодой царь ищет северных и западных краев, нового начала, относится к себе и подданным безжалостно. Он не остается сидеть в Москве с московскими полетами во сне и наяву на Запад, в мировую культуру, а берется за грязную, тяжелую работу. Для него бодрствование выше сна, даже открывающего метафизические истины.
Одним из сподвижников Петра был Яков Брюс, ученый человек барочной эпохи, артиллерист, президент Берги Мануфактур-коллегий. У него была большая библиотека, он занимался картографией, составлением словарей и календарей, основал в Сухаревой башне, где помещалась Навигацкая школа, первую русскую обсерваторию. Народ воспринимал его как чернокнижника, да он и на самом деле занимался алхимией, химией, минералогией, металлургией. Его предки происходили из знатного шотландского рода и жили в России с 1647 года.
Брюс участвовал в закладке Петербурга на Заячьем острове 16 мая 1703 года, а его старший брат был первым комендантом петербургской крепости. Брюса иногда называют московским Фаустом. Это наименование стало особенно популярным сегодня, когда коммерциализация, в том числе и исторического знания, требует ярких брендов. Фауст — бренд старинный, проверенный и пока еще неизрасходованный. В санатории Монино под Москвой, где находились его усадьба, лаборатории и книжные собрания, сегодня работает музей Брюса. Для того чтобы быть настоящим Фаустом, Брюсу кое-чего не хватает — ему не хватает преступлений! Зато некоторые из памятников, связанные с именем Брюса, были в дальнейшем разрушены — прежде всего Сухарева башня, потерю которой Москва чувствует сегодня все острее. В Сухаревой башне действительно была астрономическая обсерватория, начальником которой был шотландец Фарварсон. Правда, московская молва упорно связывала башню с Брюсом. «По Москве ходили слухи, что он, якобы чернокнижник, волшебник и маг, проводит в башне свои опыты. Вот одно из таких преданий: для службы в подземной лаборатории Сухаревой башни Брюс сделал служанку из живых цветов. Она ему помогала во всем, только не говорила. Жена мага приревновала его к этой служанке и никак не хотела поверить, что она не «всамделишная». Тогда Брюс в присутствии Петра I и жены вынул булавку из головы служанки и она вся рассыпалась цветами… М.Ю. Лермонтов дал патетическое описание башни как символа абсолютной власти:
На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Но такая же, если не еще более абсолютная власть и снесла башню. Это был Сталин с его принципом «посильнее, чем «Фауст» Гете» (таковы слова, сказанные им о сказке М. Горького «Девушка и смерть»). В 1934 году, несмотря на протесты известных архитекторов, художников и писателей, Сталин распорядился ликвидировать башню:
«Письмо с предложением не разрушать Сухареву башню получил. Решение о разрушении башни было принято в свое время Правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня. Жаль, что, несмотря на все мое уважение к вам, не имею возможность в данном случае оказать вам услугу. Уважающий вас И. Сталин»
Протестовавшие были действительно уважаемыми, успешными советскими людьми: Грабарь, Юон, Щусев, Фомин, Жолтовский, А. Эфрос. Согласно фэнтезийному сериалу Вадима Панова «Тайный город», Сухарева башня была хранилищем магической Черной Книги, содержавшей в себе самые важные сведения из библиотеки Ивана IV. А в рассказе Кира Булычева «Новости будущего века» утверждается, что в конце XXI века Сухаревская башня будет восстановлена.
В 1931 году Сталин высоко оценил «Девушку и Смерть». Сказка была написана в 1892-м и является ранним «романтическим» произведением Горького. Позднее в книге «М. Горький. Стихотворения» (1951) Сталин перечеркнул знаменитым синим карандашом и саму сказку, и репродукцию картины Яра Кравченко. Тема смерти была одной из центральных в жизни Сталина. Люди гибли вокруг него толпами, и сам он был губителем — не только безликих миллионов, но и собственной жены, которую, по одной из версий, застрелил. О смерти Сталин знал не понаслышке. Читатель Гете, кремлевский фаустианец Сталин наверняка немало о ней думал. Почему он превознес Девушку над Фаустом? Вряд ли под влиянием алкогольного опьянения за столом у Горького. Скорее потому, что Горький в сказке утверждает, что Смерть и Любовь идут всегда рука об руку, параллельно-пересекающимися путями, тогда как у Гете Смерть побеждена Любовью и Богом. Более жесткое решение у Горького, возможно, было ближе мироощущению революционера. Как бы то ни было, фаустианскую душу влекут сталинские места памяти, и особенно Кремль оказывает на нее притягательное воздействие. Посмертная судьба Сталина, которого в России, как известно, уважает более половины народонаселения, также очень важна для нашей тематики: Сталин был положен в Мавзолей, потом вынесен и похоронен, трижды проклят, обращен в ничтожество, но потихоньку стал оживать. Виноваты ли в этом его могила и Мавзолей на Красной площади? Кто знает. Как распорядились с его душой небеса, тоже неизвестно.
В смысле фаустовских аналогий Мавзолей — свое образное ограждение. Оно не препятствует проникновению ангелов, вероятно, давно уже по-своему распорядившихся душами вождей, но явно сопротивляется демонам, которым, скорее всего, не терпится разорвать их тела в клочья. Не исключено, что ипостаси Фауста — химик Борис Збарский и харьковский анатом Владимир Воробьев, создавшие метод бальзамирования тела Ленина. (Воробьев закончил медицинский факультет Харьковского университета, был специалистом по анатомии нервной системы. Свое тело он завещал харьковскому мединституту, где впоследствии хранилась урна с его прахом. В годы войны она побывала в эвакуации и только в 2005 году была захоронена на 13-м кладбище Харькова. Ученый основал в Харькове первый и единственный в мире Музей становления человека, в 1938–1942 годах создал оригинальный «Атлас анатомии человека» в пяти томах.) Современные московские оккультисты придают существенное значение угловой нише на правом фланге Мавзолея, считая ее специальным психотропным устройством для отбора энергии у людей, проходящих по площади. Они также обращают внимание на необходимость постоянного ремонта Мавзолея — он все время разрушается. Для них это знак того, что сооружение по сей день работает как алтарь, на котором невидимо производятся человеческие жертвоприношения. Первой жертвой был сам вождь.

Цитата на сталинскую и фаустовскую тему о Филемоне и Бавкиде:
Мне рассказывал отец — после окончания войны армейские части еще находились в Пруссии, и уже начала спешно осуществляться акция изгнания коренного населения с насиженных мест, — исконно ли германских — об этом пускай спорят историки. И такой приказ — собираться за считанные часы для эвакуации получила престарелая чета, но отказалась покидать родной дом; и наутро их обнаружили мертвыми на скамейке у порога своего дома.
Григорий Филановский
Катастрофизм Фауста, в общем-то, пугает фаустианца, потому что он означает непредсказуемость
В Москве находится одно из самых главных русских художественных произведений на фаустовскую тему — живописный цикл Врубеля для особняка Морозовых в Подсосенском переулке: готический кабинет, картины, скульптура Мефистофеля. Фауст у Врубеля «испанизирован»: утонченно вытянутая фигура, длинные пальцы и горящие глаза. Гретхен превратилась в мистическую королеву с роскошными светлыми волосами и огромными печальными глазами. Мефистофель с книгой в руках похож на барочную скульптуру святого. Скачка на Брокен с Мефистофелем выглядит как изысканная абстрактная арабеска. При этом Фауст анемичен, а дьявол смахивает на фигуру из кукольного театра. На полотнах много цветов и растений, остроконечных окон и крыш, деталей натюрморта. Все стилизовано под бледные старинные витражи и дышит духом не столько Гете, сколько Вальтера Скотта и Гуно. Такой Фауст — привычный элемент культуры образованной буржуазии, только культуры и ничего больше. Та же трактовка сюжета свойственна в конечном счете и Шаляпину — образу великолепному, яркому, но пустопорожнему в духовном смысле. Их московская культурная природа очевидна. Это все пухлость, энциклопедия. К этой же типологии относится вся московская череда писателей, переводчиков, исследователей, а также иллюстраторов и оформителей фаустовских книг, которых в Москве и по сей день производится очень много. Фаустианец — не обязательно филолог, не обязательно даже читатель. Кстати, и Фауст не такой уж читатель, хотя книг у него были горы. Среди переводчиков «Фауста» выделяется Фет. Он, правда, сидит не в Москве, а у себя в имении, куда фаустианец обязан наведаться: усадьба Новоселки Мценского уезда. Фет перевел «Фауста» в начале 1880-х годов. Этот перевод сейчас снова переиздан. Для его освоения требуется время, спокойствие души и желание читать, в том числе вслух, чтобы через слово Фета приобщиться к ритму Гете, а через ритм Гете — к ритму Фауста и его мира.
Собственно московская фаустовская линия — это Веневитинов, Брюсов (не только переводчик, но и автор драмы «Фауст в Москве»), Пастернак. Линия прекрасная, звучная (особенно Пастернак), но тоже прежде всего культурническая. Есть авторы, считающие, что Пастернак зашифровал в Фаусте свою критику режима и сложные взаимоотношения со Сталиным. Наверное, это близко к истине. Пастернак — совсем не Фауст, но настоящий фаустианец, а фаустианец — не лучший переводчик и истолкователь Фауста. Его главный недостаток — чрезмерный пиетет перед Гете. Поэтому фаустианец робок и занимается переводами-перепевами. Ему все хочется спасти Фауста, он считает, что это спасение Фауст заслужил. Катастрофизм Фауста, в общем-то, пугает фаустианца, потому что он означает непредсказуемость, а фаустианство устоялось, признано и давно превратилось в декоративный «кабинет» Фауста-интеллигента. И все это интеллигентная вечная Москва, по крайней мере, одна ее сторона. Рахманинов, автор Фауст-сонаты, Скрябин, хотя и не написавший ничего на тему Фауста, но бесконечно культурный даже в своих подчас безвкусных философских увлечениях. Альфред Шнитке, интеллигентный советский немец, взявшийся за воплощение инфернального и фаустовского начал в своей музыке с помощью методов авторского псевдопастиччо, то есть энциклопедического метода, и ушедшего через Фауста обратно к вечным религиозным ценностям, человеколюбивым, «розовым».
Шнитке жил и писал музыку на улице Дмитрия Ульянова (метро «Академическая»; кстати, недалеко от него на Нахимовском проспекте жил А.В. Михайлов, выдающийся знаток немецкой культуры, переводчик, мыслитель и московский фаустианец 1960–1990-х годов № 1). Вот еще перечень московских культурников и фаустианцев: Л. Копелев, А.А. Аникст, Н. Вильмонт, М. Шагинян, И.Сельвинский, И.Ф. Волков, А.В. Гулыга, С.В. Тураева, Г.В. Якушева. Присоединим сюда еще и Михаила Лифшица, того, что «не модернист». Какой блестящий перечень, но в этом зеркале черты Фауста явно смягчены.

Образ Фауста дается Москве плохо (да и кому же он дается?), зато здесь на своем месте Мефистофель: от Бугаева (Андрея Белого) до Николая Метнера и даже Дмитрия Пригова. Не будем о них, заметим только ради географии, что Метнеры и Веневитинов жили рядом, в Газетном переулке, рядом с Центральным телеграфом. Москва — отличное место для проживания и мучений многочисленных своеобразных немцев вроде Якоба Ленца (писателя движения «Бури и натиска», входившего в круг Н.И. Новикова) и Фридриха (Федора Ивановича) Клингера (опубликовавшего в 1791 году в Петербурге «Жизнь Фауста»). Но немцы что в Москве, что в Петербурге, что в Харькове, какими бы странными они ни были, — не фаустовская тема. Были и плаксы, и пьяницы, и мистики, и проходимцы, но ни одного подлинно фаустовского немца в России не проживало. Зато Фауст на сцене — пожалуйста: в Москве его все время играли и играют — сейчас у Любимова, у Юхананова, у Някрошюса; вот скоро того и гляди опять приедет Штайн. Москва — город булгаковского романа «Мастер и Маргарита» (первая, журнальная, публикация датируется 1966 годом). Это единственный в своем роде городской роман, в котором топография играет самую существенную роль. Помимо знаменитых Патриарших прудов, где герои впервые встречаются с сатаной, особо важными местами являются Пашков дом, здание библиотеки имени Ленина и Воробьевы горы, о которых уже шла речь.
Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. <…> Воланд заговорил:
— Какой интересный город, не правда ли?
Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:
— Мессир, мне больше нравится Рим!
— Да, это дело вкуса, — ответил Воланд. <…>
Опять наступило молчание, и оба находящихся на террасе глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиною к закату.
Булгаковедение, особенно в Москве, скоро сможет соперничать с гетеведением. Булгакову удалось создать произведение, которое, будучи включенным в литературно-исторический контекст России второй половины ХХ века, начало продуцировать бесчисленные и часто взаимоисключающие интерпретации. Жизнь писателя, круг его чтения, история Москвы, России и мира, наконец, фрагменты фаустовского мифа соединились в клубок смыслов, которые множат сами себя. Булгаковская Москва зовет в путь: в Иерусалим и в Веймар, куда-то в поля — то ли на Оке, то ли на Одере — и в злачные заведения новейшей Москвы. Она даже чрезмерно географична и потому суетлива: испещряет все мемориальными досками — и девальвирует, адаптирует, иллюстрирует. Это, быть может, соответствует Булгакову и даже Гете (маршруты Гете, города и скамейки Гете — вот с кого все это началось), но не отвечает Фаусту. Читатель, вероятно, давно уже начал чувствовать, что Фауст не только носится по миру, но и стоит на одном месте. Географичность, лабиринтообразность Москвы дают почувствовать, что в отличие от бесконечно передвигающихся Воланда, Мастера, Маргариты и всей остальной своры, Фауст, в общем-то, не поклонник ни поездок в Веймар, ни посещения горы Брокен, ни прогулок по Москве.

Что касается более поздних московских воплощений Фауста, то существует одна небезынтересная статья слависта Ди Лео Доната (докторанта неаполитанского университета) «Судьба русского Фауста во второй половине XX века», где рассматриваются три забавные московские вещицы конца 60-х — середины 80-х годов. Это комедии «Обольститель Колобашкин» Э. Радзинского (1968, журнал «Театр»), «Ошибка Мефистофеля» Н. Елина и Вл. Кашаева (1984) и «Визит Сатаны» Вл. Крепса (1986).
Колобашкин — изобретатель МАДАФ, «машины времени имени доктора Фауста», оснащенной «рычажком Мефистофеля». Обольститель Колобашкин — это мефистофельский образ, главный герой и «попутчик» историка Ивчикова, «подопытного гражданина», своеобразного антифауста. Действие вращается вокруг МАДАФ, «механической музы», которая, по замыслу изобретателя, способна создавать литературные произведения при помощи «биотоков человеческого гения». Этим и пытается воспользоваться пишущий в журнал «Фантаст» Колобашкин: ему хочется славы и больших денег. Он надеется, что биотоки архивариуса Ивчикова, который роется в архивах в поисках рукописи XIV века «Сказание о Ферапонтовом монастыре», приведут в действие МАДАФ. Машина времени переносит писателей то в древность, то в будущее. «Рычажок Мефистофеля» отвечает за невидимость, которая позволяет «писателям» наблюдать за происходящим. Тем не менее все попытки неудачны: к концу драмы читатель узнает, что МАДАФ — просто старый пылесос, металлолом. Это значит, что «дырчатая телепортация» и наблюдение событий прошлого происходили, к сожалению, лишь в воображении присутствующих.
Стыдясь своего провала, Мефистофель покидает ад и остается жить на советской земле
Тот же самый интерес к славе и деньгам проявляет Хаустов, действующее лицо повести Н. Елина и Вл. Кашаева «Ошибка Мефистофеля». Хаустов вызывает черта неосознанно, способом настолько обычным для русских, что «его появление принимает одновременно комический и парадоксальный аспект» (Так у автора. — И. Ч.). Хаустов — врач, занимающийся поиском лекарства от хаустовки, открытой им болезни. Он не терпит конкуренции со стороны своего коллеги Вагина. Хаустов лопается от зависти к Вагину из-за того, что, в отличие от него, не получил известности в области медицины. Мефистофель пользуется случаем, чтобы исполнить желания Хаустова, который заявляет, что в случае омоложения стал бы футболистом, и предлагает договор. Хаустов соглашается, но последствия договора оказываются слишком невыгодны для черта, попавшего в абсолютное подчинение господину, жаждущему только славы и денег. Требования Хаустова так многочисленны, что Мефистофель проклинает тот час, когда встретил Хаустова, и впервые в истории фаустовского сюжета нарушает соглашение, осознав свою ошибку: он выбрал человека наглого, бессердечного, бесстыдного, карьериста и пошляка. Стыдясь своего провала, Мефистофель покидает ад и остается жить на советской земле, где работает воспитателем, улучшая нравственный климат футбольной команды «Шпульки».
В шуточной пьесе Вл. Крепса «Визит сатаны» Маргарита — лаборантка Фауста, страдающая из-за того, что не может приобрести модную дубленку. Она заключает договор с чертом и предъявляет безнравственные требования: например, выгнать из месткома одного из членов, который оклеветал Маргариту в стенгазете; вызвать паралич у старой соседки, которая препятствует ее многочасовой болтовне по телефону, и даже убить соседского ребенка, плачущего по ночам, когда Маргарите хочется спать. Черт, пришедший в ужас, разрывает договор и пускается в бегство.
Но, пожалуй, еще смешнее заключение, которое делает автор статьи Ди Лео Доната: «Вот судьба русского Фауста во второй половине XX столетия: Ивчиков, Хаустов, Маргарита, — три деградировавших фаустовских образа, обратившихся в пошлых людей советского общества». Слава богу, что кроме Ивчикова и Хаустова, Радзинского и Крепса были и есть в Москве и другие фаустианцы.
Использовались маски и раньше, скажем, при Чехове и Амфитеатрове. Автором фельетона «Московский Фауст» был известный театральный критик и беллетрист А.В. Амфитеатров, но приписывали его Чехову (журнал «Новое время», 1892). Так, некто Лазарев писал Чехову:
Слышал, впрочем, что фельетон «Московский Фауст» произвел в Москве сенсацию и что небезызвестный Вам жидок Гурлянд готовил (то есть приготовил) московскому Фаусту «Ответ громовый» от имени московского Мефистофеля и предполагал ответом этим украсить столбцы «Московской иллюстрированной газеты».
Провального и смешного у нас немало. А.Ф. Керенского называли «неудачным русским Мефистофелем». Сологуб вывел образ «мелкого беса». Хармс в Ленинграде тоже «канал» то под Мефистофеля, то под Фауста. В России любят и помнят этих персонажей. Как-никак, одного изваял Антокольский и пел сам Шаляпин, другого обнаружили в Ставрогине (Вяч. Иванов) и в других героях Достоевского, в Мечникове, братьях Вавиловых, в Тимофееве-Ресовском, в Ландау и т. д., и т. п. Имели место эти образы и в московской политической публицистике последнего времени: люди-то все культурные. Вот кусочек из Новодворской:
Сейчас приходится использовать разные грани одного издания. На одной стоит в позе Мефистофеля Эдуард Лимонов, явно желающий устроить Вальпургиеву ночь в масштабах всей России. На другой топчусь я — видимо, в роли Маргариты. Или чего-то среднего между юной и прекрасной (но глупой) Маргаритой и старой и мудрой ведьмой <…> Но то, что происходит у нас, это точно будет посильнее «Фауста» Гете. Эдуард Вениаминович — писатель, и поэтому сам черт ему не брат. <…> Так вот, я, совмещая функции ведьмы и Маргариты, во-первых, чую, что у Эдуарда Лимонова явно есть рога, копыта и хвост на конспиративной квартире. И серой что-то пахнет. Хотя трогать Лимонова нельзя: у него есть литературный дар. И демократам говорю: «Дверь не открывай». Хотя это не роль Гретхен, не ее текст. Не выйдет, Эдуард Вениаминович, не видать вам бессмертной души российской демократии. Не продадим. Не отдадим наше право налево. Не будем расписываться кровью, а ведь она в вашей программе есть. <…> Мы буржуи, мы хотим спокойно есть свои ананасы и жевать своих рябчиков. Нам нужен нормальный западный капитализм, без Путиных, без Зюгановых, без Лимоновых. Ни Стенек Разиных нам не нужно, ни Емелек Пугачевых. И если я, по словам Лимонова, «эксцентрик», то и ему прямая дорога в цирк на Цветной бульвар. Только номера у нас разные. Я из своего цилиндра достаю свободу, сытость, процветание, спокойную, размеренную европейскую жизнь, добрую, честную, прогрессивную. А Лимонов достает из своего цилиндра гражданскую войну, голод, смерть, разруху, Третью мировую, Сталина, Берию, ГУЛАГ, миллионы трупов россиян. Какого фокусника предпочтет публика? Спорю, что меня. Под моей программой подпишутся все мамы, бабушки и коты Российской Федерации.
* * *
Германия, Европа, Украина, Россия — вот наше путешествие и подходит к концу, хотя, в принципе, оно бесконечно. Многое пропущено, но мы помним о нем: Брокен, Греция, Аркадия, Мистра, Фарсальские поля, изгибы Верхнего и заливы Нижнего Пенея, Ультима Туле, Новая Земля… Но, впрочем, зачем нам все эти места и местечки, памятники и мемориальные доски, эта суетливая беготня по коридорам культурной памяти? Фаустианец, как существо меланхолическое и строптивое, быстро устает от болтливых экскурсоводов и самодовольных достопримечательностей. Удается ли ему пережить чужое как свое и свое как чужое?
Вернемся еще раз в кабинет фаустианца. А. Михайлов в своем позднем сочинении «Ангел истории» (1995), чей пафос очень созвучен духу географии воображения, точнее, языкового воображения, писал: «Все, что мы можем знать существенного о языках культур прошлого, заключено внутри нашего языка культуры. Вот так. Нам хотелось бы иногда знать нечто существенное о том, что называют иногда «образом мира», присущим разным культурам и культурным кругам, — а это задача неразрешимая сама по себе. И когда мы принимаемся, тем не менее, за ее решение, то оказывается, что мы никуда не уходим из пределов нашего языка культуры. На что же мы c вами можем рассчитывать? Только на то, что наш язык культуры окажется достаточно широк для того, чтобы вместить в себя — в некотором отраженном виде — и другие языки культуры».
Когда поездки на вожделенный для советского интеллигента Запад только начинались, А.В. Михайлов сказал мне, возвратившись, кажется, из Мюнхена. «Это для Вас. Мы все заседали, потом прошелся по книжным — и на самолет». Он не был путешественником в пространстве, только во времени и по текстам. Пусть этот текст будет данью его памяти — памяти замечательного русского германиста в самом что ни на есть фаустовском смысле слова.

* * *
Не создалось ли у нас странное ощущение, что фаустовский миф движется по кругу?
Что же находится в центре фаустовского мира и обладает ли он центром? Голова, субъект и его воля? Город? Скала? Лестница в небо? Пещера, уводящая к корням вещей? Ненасытность и одержимость Фауста позволяет ему делать центром мира то одно, то другое. Мир распадается на части, эпизоды. Что их связывает, кроме самого действующего лица, имени? Кажется, что это линия путешествия души в мире и в своем внутреннем пространстве, — путешествия, которое приводит душу к самой себе. Мир, данный нам в радуге желаний, является нам во множестве картин и сюжетов и чем-то даже напоминает кино. Мир складывается в переходах, в радостях и страданиях света, обещающих преодоление пространства и времени, ожидающее нас впереди.
8 июня 2011 года.
Дворец Бобринских
Читайте также
-
Просто Бонхёффер
-
Что-то не так с мамой — «Умри, моя любовь» Линн Рэмси
-
Сыграй еще раз, Вуди
-
Сквозь тела, теории и связный нарратив. Рождение киночувственности — «Опыт киноглаза» Дарины Поликарповой
-
Хроники русской неоднозначности — «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского
-
Достоевский в моем дворе — Сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе








