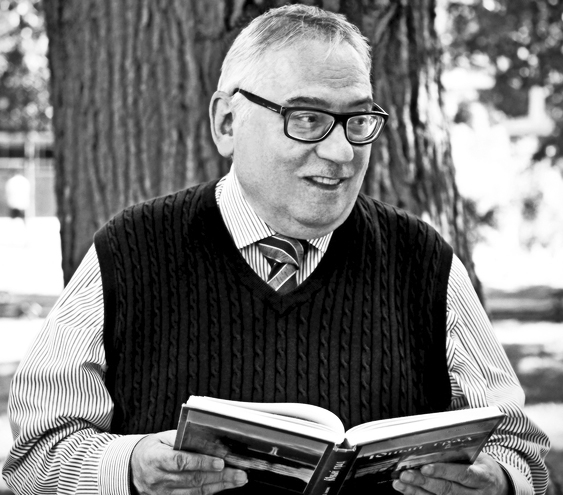Gemeindrang
Герой данного материала, кинорежиссер Илья Хржановский, в 2024 году был признан Минюстом РФ иностранным агентом. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
СЕАНС — 47/48
В пятом акте трагедии — впервые во второй части «Фауста» — Мефистофель вновь играет закрепленную за ним пактом роль искусителя, отрицателя, стремящегося выиграть пари. Пиратствуя вместе со своими пособниками, он занят финансовым и материальным обеспечением фаустовской цивилизаторской миссии. Теперь Фаусту не придется скучать: власть и труд захватят его сполна.
Деятельность Фауста вызвана стремлением к безусловному, но осуществляется в ситуации полной обусловленности: без магической помощи Мефистофеля она невозможна. Для человека переход от мысли к деянию не может быть моментальным и беспроблемным, но именно таков он в воображении Фауста. А Мефистофелю важно держаться генеральной линии фаустовского безусловного стремления и поддерживать все его начинания.
Гетевский герой полагает себя субъектом истории, а свою деятельность — процессом, устремленным в бесконечность. Так понимает историю человек модерна, превративший свой разум в орудие воли. Человек, ставший персонифицированной деятельностью.
Фауст хочет колонизировать мир метаморфозы (мир Филемона и Бавкиды). Властная рука Фауста подчиняет этот мир производственному процессу — его имманентной чертой становится бесконечная целестремительность.
Ты добывай людей, Возможно, хоть целыми толпами! И строго поступай ты с ними, как с рабами, И удовольствия для них ты не жалей! Плати, настаивай и соблазняй!

Задуманный Фаустом план социальных преобразований изначально выглядит как исторический парадокс: ничем не ограниченный правитель, чья власть держится на насилии, хочет вызвать к жизни «свободный народ», от которого требуется добровольное самоограничение и коллективное самопожертвование.
Весь проект Фауста обусловлен не любовью к ближнему, а, как бы сказал Ницше, «любовью к дальнему».
Свободу и жизнь заслуживает человек, который претворяет в жизнь решения Фауста. Неполноценность такой свободы налицо.
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!
Подчеркивая мощь и размах своей созидательной деятельности, Фауст говорит о едином порыве (Gemeindrang), которым должны быть охвачены люди, осуществляющие его проект.
Gemeindrang — вовсе не гетевский неологизм; так поэт перевел с французского языка на немецкий важнейшее понятие сенсимонистской доктрины impulsion commune. (В 1830-м, в год июльской революции, Гете внимательно читал сочинения сенсимонистов.)
В историософской концепции сенсимонизма общий, совместный порыв является характерной чертой «органических эпох» — греческой античности и Средневековья. В едином общем порыве концентрируется массовый альтруизм, которому противостоит «эгоизм» римской античности и современности — эпох партикулярных интересов.
Конечно, людям модерна необходима подлинная свобода; средневековые верования не соответствуют современной эпохе: пассивно воспринимаемая догма не в состоянии объединить современное человечество, его может объединить только общий порыв, сравнимый по силе энтузиазма с католической верой.
Гете во многом разделял сенсимонистскую критику современности, однако к пророчествам этих «очень толковых людей» относился крайне скептически. «Они точно знают изъяны нашего времени и умеют также доносить сокровенные мечты; но как бы они ни тщились устранить уродство и способствовать скорейшему осуществлению мечты, у них дело везде не ладится. Глупцы воображают, что разумно сыграют роль провидения».
В сенсимонистском мире свободного труда, где трудящимся обещано счастливое будущее, а нетрудящиеся совершенно бесправны, Гете видел латентную форму якобинской диктатуры и террора.

Об учении Сен-Симона Гете высказался также в беседе с Эккерманом 20 октября 1830 года. Разговор начал сам Гете, попросив своего секретаря высказать мнение о коллективистской доктрине французского утописта. «Основная мысль их учения, — сказал Эккерман, — видимо, сводится к тому, что каждый должен трудиться для общего счастья, ибо такова предпосылка счастья личного». На что Гете ответил ему: «Я всегда считал, <…> что каждому следует начать с себя и прежде всего устроить свое счастье… Вообще же учение Сен-Симона представляется мне абсолютно нежизненным и несостоятельным. Оно идет вразрез с природой, с человеческим опытом, со всем ходом вещей на протяжении тысячелетий. Памятуя о своем призвании писателя, я никогда не задавался вопросом: чего ждут от меня широкие массы, и много ли я делаю для всеобщего блага, я только всегда старался глубже во все вникать, совершенствуя себя, и высказывать лишь то, что я сам признал за истинное и доброе…»
Сделав Фауста рупором утопических идей, Гете предельно дистанцировался от него. Прочно стоя на земле и не питая никаких иллюзий относительно «свободного труда» и тем более труда, организованного властью, Гете четко обозначает границы, в которых власть может и должна гарантировать людям свободу. Речь идет о законодательстве. «Мне думается, что законы должны печься о приуменьшении зла, а не дерзостно стремиться одарить народ счастьем».
В исторической перспективе осуществление фаустовских проектов выглядит устрашающе. Все преобразования природы и общества, осуществлявшиеся и осуществляемые авторитарными и тоталитарными режимами, производились по модели пятого акта — как претворение в жизнь сенсимонистской утопии.
Даже в Веймаре Гете страшился любых намеков на фаустовское самодержавие. В 1830 году, в разговоре с канцлером Мюллером, Гете сказал о великой герцогине Марии Павловне: «У нее ложное русское понятие централизации. Веймар был только тем и интересен, что никогда не был центром. Здесь жили значительные люди, не выносившие друг друга; это была самая жизненная форма отношений, <…> каждому сохранявшая его свободу».