И задача при нем…
Лебединое озеро
В лице Леонида Гайдая советское кино, безусловно, вытянуло свой самый счастливый билет. К билету, однако, прилагалась задача. Совсем как у нерадивого изобретателя Дуба из «Операции Ы…»: «Билет номер такой-то и задача при нем…»
Дубу, если помните, профессор врубил по ушам радиопомехой и выгнал. С Гайдаем так не получается. Сложность решения в том и состоит, что условий задачи мы толком не знаем. Хотя бы потому, что знаменитые и любимые гайдаевские фильмы смотрим с удовольствием и с любого места, но не видим. Вернее, видим, но не такими, какие они есть, а такими, каких их просто не может не быть, какими мы видали их десятки раз в одиночку, в компании, на экране и по телику, с кем-нибудь в обнимку или просто потому, что нельзя же, елки-палки, не включить ящик, если в нем крутят «Кавказскую пленницу».
Иначе говоря, фокус Леонида Гайдая принадлежит к тому разряду объектов нашего культурного зрения, которые начинаешь всерьез замечать только после того, как они вдруг исчезнут. Представьте себе — вы никогда больше не увидите «Бриллиантовую руку» — волосы дыбом встанут.

Честертон называл это эффектом почтальона (письмоносец столь императивная деталь ландшафта, что одетый под него убийца остается стопроцентным невидимкой). В разгар президентских выборов наше телевидение почти гениально этот эффект использовало — подсчет голосов на большинстве каналов перемежался новеллами из «Операции Ы…». Ни один из других по-настоящему народных режиссеров здесь был бы неуместен. Ни Рязанов, ни Данелия. Ни «Белое солнце пустыни», ни «Джентельмены удачи». Разве что «Ну, погоди», но такое название звучит слишком уж вызывающе по отношению к запрету на агитацию в день выборов. Гайдай и здесь попал в самую точку — его кино оказалось тем самым коллективным антидепрессантом без побочного эффекта, который советская власть когда-то пыталась выпарить из «Лебединого озера».
Если бы это сравнение не существовало въяве, его стоило бы придумать. Классический балет — «император искусств», знаковая абстракция. Он — либо после всего, когда эстетическая плоть очищена до поставленного аттитюда. Либо — до всего, когда нездешняя гармония еще не разбавлена мутным потоком осознавшей себя души. Власть неспроста пыталась сделать балетную классику формой директивного фольклора. Красиво, пышно, музыка играет, плюс «впереди планеты всей», но по сути совершенно стерильно, безвредно. Никак. Полая для неэкспертов форма.
В день выборов, перед угрозой массовой истерики, конечно, должно было играть «Лебединое озеро». Но заиграла «Операция Ы…». В день думского марафона, кстати, прошло «Белое солнце пустыни», но там и напряг был поменьше и результат внешне более предсказуем. Потому и сгодилась неформальная сказка для взрослых со всеми ее парафразами и ироничными подтекстами. Гайдай в этот ряд не вписывается. Будучи неотъемлемой частью советского фольклора, он не снимал фольклорное кино. По-английски folclore можно буквально перевести как «народная ученость» — и Рязанов, и Данелия, и Марк Захаров, и даже мультипликатор Котеночкин стали работать, надеясь на то, что народ уже кое-что о себе знает. В лучшие свои годы Гайдай на это никогда не надеялся и выигрывал.
Версии
Это, впрочем, еще даже не условия задачи, а всего лишь предисловие к ним. Условия же таковы, что, хотя покойный Леонид Иович Гайдай давным-давно заслуживает большой и подробной монографии, едва ли в ближайшее время кто-нибудь решится подобную книгу написать. По той простой причине, что, будь книга сделана, она состояла бы из разбора двух гениальных коротышек, трех блестящих кинокомедий, двух отличных экранизаций и такого же числа полуудач, неудач и просто никаких фильмов.

Леонид Гайдай
По первой версии Гайдай слишком переоценил собственные силы. Трюкач и эксцентрик от Бога, он принялся за неприсущие ему повествовательные формы, начал экспериментировать с диалогом, характером, а потом и вовсе замахнулся на традиции «высокого смеха». В 1976 году, за «круглым столом» «Литературной газеты» обычно не склонный к теоретизированию режиссер высказался по поводу литературной классики как о своем «надежном резерве». И добавил почти как незабвенный товарищ Саахов: «Бояться не надо! Зачем бояться?».
Это «зачем бояться» ему потом не раз припоминали. И, в общем, за дело. Гайдаевские экранизации выстроились строго по-убывающей. От искрометных «Двенадцати стульев» и «Ивана Васильевича…» к удручающим «Инкогнито из Петербурга» и советско-финским «За спичками». Угодив в книжный переплет, великий клоун скис, сдал, сбил руку. Так, что даже оригинальные сценарии экранизировал потом без особой фантазии. С началом перестройки он, правда, воспрял. Страна поголовно хохотала над действительно очень смешной сценой, когда брошенный в Большом театре клич «агенты КГБ на выход» вымел из зала всех, вплоть до солиста и капельдинеров. Удержусь от слишком витиеватой параллели с определенной выше балетной природой ранних гайдаевских шедевров. Факт остается фактом — общественная либерализация совпала с творческим возрождением. Что было бы дальше, мы так и не узнаем. Гайдай умер.

Кавказская пленница
Версия вторая. Гайдая сгубило «самое читающее в мире общество». Он снимал гениальные кинокомедии, а ему втюхивали высокие образцы литературы и драматургии. Гайдай искренне любил зрителей, поэтому к советам прислушивался. Критика ему все охотно объясняла. Почему, например, «Кавказская пленница» это не выражение мысли через трюк, а просто балаган. Почему «Бриллиантовая рука» должна была бы стать пародией на второсортные детективы, а согрешила с бытовой комедией. Почему Гайдаю не даются сатира Ильфа и Петрова, социальный сарказм Булгакова или мещанский говорок Зощенко. Словом, перечитывая сейчас старые рецензии на гайдаевское кино, приходишь к выводу, что для современников идеальным созданием режиссера остался одночастевый «Пес Барбос», по отношению к которому уже «Самогонщики» выглядят кризисом жанра, потому что продолжаются целых 20 минут.
Версии зеркальные, но оттого не менее противоречивые. Если на то пошло, «Пес Барбос» тоже был экранизацией — в его основу лег стихотворный фельетон украинца Степана Олейника. «Иван Васильевич…», например, вроде бы был обречен на провал, потому что совершенно бестактно перетащил коммунальную лексику 30-х в многоквартирно-новостроечные 70-е и, тем не менее, вошел в пятерку лучших созданий режиссера, а тщательное ретро «Не может быть!» — нет. Не вышло, не сработало. Почему, наконец (и это самое главное), работы Гайдая «постлитературного» периода как будто сделаны другим человеком — не более и не менее талантливым, а просто другим.
Смех сквозь слово
Слово действительно не являлось преимущественной стихией мастера. В его диалогах встречаются лишние реплики (и это в фильмах, где буквально нет ни одного лишнего кадра). Что-то, вроде пресловутого «волюнтаризма», которым Балбес сгоряча ругнулся в доме уважаемого Джабраила, ушло вместе со временем. Даже зрительные гэги, построенные на вербальных отсылках, обмельчали в первую очередь. Скажем, краткое содержание «Бриллиантовой руки», слепой строкой пробегающее за пять минут до конца фильма, с одной стороны, конечно, отражает истинное отношение автора к «мысли изреченной», а с другой — подставляет его под чуждые законы. И наоборот. Там, где слово развенчано, превращено в гэг, вывернуто наизнанку, все в порядке. Обратите внимание — на культовые поговорки разошлась прежде всего гайдаевская тарабарщина — «хам-дураля», «цигель-цигель, ай лю-лю!» или бессмертное «барбумбия-кергуду» (последнее воспроизвожу на слух, потому что как это записать, непонятно).
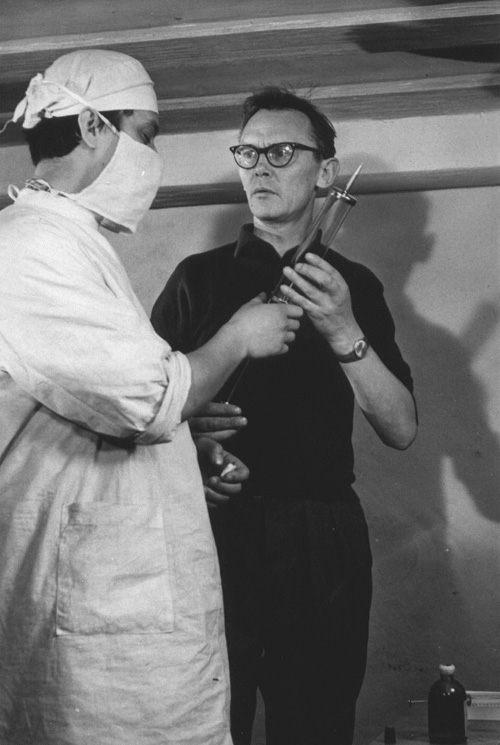
Кавказская пленница
В этом смысле надо признать, что Леонид Гайдай абсолютно самостоятельно и независимо прошел путь, которым до него уже ходили пионеры «ранней комической». В телепередаче Карена Шахназарова, например, Аркадий Инин рассказал, что Гайдай несколько дней мучился погоней для «Частного детектива». Сцену сняли, всем она нравилась, а его что-то не устраивало, что-то раздражало. Успокоился он только тогда, когда разыскал крупный план черной кошки и врезал его в уже готовый материал. Излишне говорить, что кошка как таковая к сюжету никак прикреплена не была, в гонке не участвовала и больше на экране не появлялась. С ней пришел ритмический акцент, удар, синкопа. То, без чего кинопогоня — экстракт экранной пантомимы — просто не существует.
Мак Сеннет
Схожим образом по преданию работал МакСеннет. Современники вспоминают, как он проклеил показавшуюся ему недостаточно энергичной сцену семейной разборки роликом, в котором кошка гонялась за выпорхнувшей из клетки птичкой. Сцены снимались разными постановщиками, в разных интерьерах и для разных фильмов, но МакСеннету на это было в высшей степени наплевать. Он делал комедию, которая должна была сразить наповал аудиторию, состоявшую из проходимцев, перемещенных лиц и безродных космополитов, приехавших попытать счастья в обетованной земле. Ни о какой культуре и даже фольклоре («народной учености») речь не шла. Америка 10-х годов была «дофольклорной» территорией и раннеиндустриальным Вавилоном. Может быть поэтому (так гласит еще одно предание) МакСеннет очень гневался, завидев кого-то из сотрудников «Кистоуна» с книгой. Говорят, он даже повесил над входом в студию плакат, где коротко и ясно предупреждал: «В книгах нет гэгов».

Кавказская пленница
На рубеже веков Бергсон написал свой трактат о смехе. Индивидуальному, трагическому и художественному противопоставлялось массовое, анонимное и механистичное («смех не есть результат размышления, но это почти рефлекторный механизм — удар на удар…»). Стоит ли удивляться, что ранний «слэпстик» оказался почти универсальной категорией мироустройства, сослужившей немалую службу по придаче гетерогенному обществу единой ценностной шкалы. От примитивных социальных моторчиков (кто такие кистоуновские «копы», «купальщицы» и «дети», как не прикидочная шифровка будущих опор протестантского истеблишмента — репрессий, эроса и семьи), через выделение общественно идентичных масок к кризису и концу.
Конечно, можно утверждать, что Линдера, Ллойда и Китона вывели в тираж звук, полный метр и литературность повествовании. Но еще правильнее предположить, что эти рафинированные клоуны просто ушли из времени. Остался только Чаплин, чей избыточный физиологизм с самого начала предполагал в варварской монополии движения и ритма дуализм, а стало быть, развитую буржуазность личности.
Книга гэгов
Гайдай, как будто, не открыл ничего нового. От короткого — к длинному, от маски — к характеру, от трюка — к истории. «Пес Барбос и необычный кросс» почти буквально повторяет метафорический слой максеннетовских эскапад — собачка оснащена динамитными шашками, стало быть исход беготни вполне смертоносен, но оттого не менее смешон. Сюда же попадает и персонажный расклад знаменитой троицы, и серийность, и даже тот полузабытый факт, что прямо с экрана Трус, Балбес и Бывалый перекочевали в кадры фотокомиксов. «Кавказская пленница» несет в себе все черты коротышки, ставшей полнометражным фильмом, «Бриллиантовая рука»попадает под определение абсолютного шедевра, потому что уже на уровне сценария планирует диалог как набор вербальных гэгов.

Бриллиантовая рука
О дальнейшем читайте в истории кино и имейте в виду, что Гайдай еще легко отделался. В схожей ситуации Линдер наложил на себя руки, Китон попал в дурдом и даже уступающий им калибром Роско «Фэтти» Арбокль в пьяной истерике грохнул несовершеннолетнюю старлетку.
Задача, однако, не в том, почему Гайдай кончил именно так, а почему он именно так начал? В 60-е годы попытки реанимации старой комедии вошли в моду по всему миру. Беспрецедентная овация, которую публика Венецианского фестиваля устроила вынырнувшему из небытия Китону, многочисленные антологии «Золотого века комедии», попытки деловитых американцев поставить возрожденный жанр на конвейерную основу (до нас в свое время дошел Этот безумный, безумный, безумный мир Стенли Крамера, кого по темпераменту комедиографом никак не назовешь). За считанными исключениями опыты закончились ничем. Мировая культура 60-х, искренне пытающаяся примерить варварские одежды прошлого, отторгла «слэпстик» как инородное тело, лишь частично абсорбировав его в поп-комедия a’la Ричард Лестер.
Случилось это, вероятно, потому, что 60-е всего лишь имитировали культурную tabula rasa, будучи по существу исписанными вдоль и поперек наследием предыдущих периодов. У Гайдая же получилось нечто, что не объясняется только индивидуальным даром, но требует более широкой опоры, фона, бэкграунда.
Понятно, что глупо достраивать целый исторический фрагмент дедуктивным методом, но иначе не получается. Анализируя от противного — не от времени к фильмам, а от фильмов ко времени, приходишь к выводу, что гайдаевская эксцентриада взошла на нераспаханной грядке коллективной души, там, где еще не упали семена иных знаний и соблазнов, где народная душа еще девственна, обнажена и проницаема той самой балетной абстракции представлений о себе и о мире.

Бриллиантовая рука
Легче всего связать это с пресловутым шестидесятническим оптимизмом, однако он оставил по себе немало мифологических величин и, судя по всему, был мифологически же изрядно подготовлен. Гайдай работал не поверх времени, он оставался внутри, но запускал при этом машинерию смеховой архаики «до времени» и до главных этапов общественного творения.
Гарольд Ллойд и другие приключения Шурика
Когда-то ходила байка о том, что «Пса Барбоса» и «Самогонщиков» рассылали по нашим консульствам и заграничным торгпредствам с инструкцией показывать фирмачам перед заключением ответственных сделок. Говорят, что, поглядев гайдаевские коротышки, буржуи мягчели и легче шли на уступки. Это, наверное, анекдот, но анекдот с немалым смыслом. Гайдай ухитрился создать редкий феномен по-настоящему смешной кинокомедии в стране, где смех традиционно устремлялся по нисходящей.
«В особенности страшен смех как социальное орудие, — написал когда-то Луначарский, — если он получает движение не сверху вниз, а снизу вверх». Сказано совершенно верно, и между строками еще вернее замечено, что самому счастливому в мире народу оружие лучше не доверять. Потому талантливый Григорий Александров всегда подчеркивал, что делает не «смешное» кино, а «веселое» — так спокойнее. Гайдай же делал кино, которое еще толком не очень ориентировалось в субординации верха и низа, поскольку крайности иерархии в свою очередь еще не утвердились.

Бриллиантовая рука
Проверить это очень просто. Например, легендарные Вицин-Моргунов-Никулин при рождении еще не несут в себе внятных социальных амплуа. Жлобом, пьющим интеллигентом и уркой они становятся только в «Операции Ы», а в «Псе Барбосе» и «Самогонщиках» являют всего лишь эксцентрический контраст человеческих типов — толстого и тонкого, флегмы и неврастеника. Это сугубо максеннетовский подход к исполнителям — кистоуновский персонал подбирался по принципу едва ли не патологической гипертрофии внешних черт. Косоглазый Бен Тюрпин, тощий, как жердь, Форд Стерлинг, олигофрен «Фэтти». Даже Чаплина позвали сниматься, потому что МакСеннет поначалу увидел в нем потешного старика.
Из бурлящей массовки выделился индивидуальный герой. У Гайдая им стал Шурик, которого мы со временем начали воспринимать как образцово-смехового шестидесятника. Ковбоечка, «техасы», кеды, сопромат, приработки на стройке, рюкзак, фольклорная экспедиция, платонические влюбленности -очкастый блондин, как губка впитал внешность эпохи (семидесятнический Шурик-изобретатель в «Иване Васильевиче…» это уже функция, служебный персонаж). При этом самая узнаваемая поколенческая черта Шурика — стихи Ярослава Смелякова — его же самая диссонансная черта. Охотно верится, что угоревший от сессии студент не проваливается в канализационный люк. Он же, произносящий культовые строки о «хорошей девочке Лиде», доверия не вызывает, как не вызывает доверия занятый мелодекламацией балетный солист.
В галерее далеких предков Шурик больше всех перекликается с Гарольдом Ллойдом. Не только потому, что оба в очках. И первый из триумвирата американских киноклоунов и советский смеховой медиум сконструированы из вторичных общественных атрибутов. Обоим не надо разговаривать. Обоим надо только быть. Там канотье, тут ковбойка. Там костюмчик, который мама-провинциалка построила сыну на выпускной бал и в котором он отправился покорять столицу, тут — джинсы из чертовой кожи, с обилием карманов и заклепок, стремительно входящий в моду бытовой дизайн ранних 60-х. Там — вечный клерк, тут — вечный студент.
Адресат комического противостояния у обоих похож. Ллойд и Шурик сражаются с обстоятельствами (позднее Китон откроет агрессивную природу вещей, а Чаплин схватится с самим собой). Ощутимая разница только в том, что у Ллойда внешняя сила носит стихийный, анонимный характер, а для Шурика она персонифицируется то в отправленного на «сутки» дебошира, то в антиобщественные действия мелких городских жуликов или крупных восточных управленцев. Тут, кстати, объясняется и природа отрицательных персонажей Гайдая. И тут же видна обаятельная нестыковка первой новеллы «Операции Ы…» — у беспредельщика-Феди вдруг обнаруживается семья, дочки, а самому ему сорок один год, значит воевал и под обстрелом отбойного молотка лежал вполне осмысленно…
Понятно, что дальше Ллойда эволюция героя пойти не могла. Общество сделало очередной виток против резьбы. Смех перестал циркулировать по вертикали и устремился куда-то набок, к грустным или злым комедиям. Только в самом лирическом создании Гайдая — эпизоде «Наваждение» из «Операции Ы» — Арлекин-Ллойд успел ненадолго уступить место Пьеро-Китону. Совершенно по-китоновски задуманный сюжет движется предметом, вещью, неодушевленной материей. Шурик обречен, едва завидев конспект в руках Лиды. Вещь ведет его по истории, предмет провоцирует чувства. Люди обречены жить в каком-то ином мире, отличном от стихии намерений и обстоятельств. Солнечный герой-идиот на секунду поворачивается печальным лунным ликом. Кстати, «Наваждение» оказалось едва ли не единственной работой мастера, получившей международную награду — приз короткометражного фестиваля в Кракове.
Больше такого не случается. Чаплиным Шурик не стал и стать не мог, потому что Чаплин сделал из эксцентрической комедии буржуазную, а Леонид Гайдай искренне снимал советское кино. И, начав делать его всерьез, в полном объеме общественных знаков и величин, просчитался. «Спортлото-82», «Частный детектив» и «Опасно для жизни» это настоящие советские комедии. То есть никакие.
Режиссер, который слишком много знал
При таком варианте решения «литературный» период режиссера кажется уже не навязанным извне и не ложно понятым изнутри. Может быть, Гайдай сознательно отсиживался в тени Булгакова, Гоголя или Зощенко, пережидая время и втихаря оттачивая стиль? Эта версия напрочь разбивает гипотезу о Гайдае — стихийном гении и ставит не менее трудный вопрос о Гайдае-стилисте. Тем более, что экранизация как таковая появилась в его фильмографии не после, а до эксцентрического периода. «Деловые люди», сделанные по трем рассказам О’Генри, последовательно показывают виртуозные упражнения режиссера в канонических американских стилях — вестерне, криминальной драме и бурлеске.
Насколько у него это вышло, сужу по себе. Однажды я наобум включил телевизор и минут пять пребывал в полной уверенности, что смотрю какой-то старый голливудский боевик с ковбоями и индейцами, а не «Дороги, которые мы выбираем». И куда деть сцену застолья из «Ивана Васильевича…», всенародно любимую за исполненную Куравлевым песенку о счастье, но мало кем идентифицированную как гомерическую пародию на пир опричников из «Ивана Грозного». Или совершенно психоделическую отсылку в «Не может быть», когда тема «вы слышите, грохочут сапоги» моментально выстраивает вокруг кокетливого нэпмана Олега Даля сообразный ореол «звездного мальчика». Или совсем уж ни в какие ворота не лезущий гэг из «Кавказской пленницы»: в поисках Нины Шурик шарит по спальным мешкам и в одном из них видит самого себя — в 1967 году такой сюр мог быть спровоцирован только прологом «Земляничной поляны», прочно засевшей в сознании отечественных кинематографистов как образец авторского кинописьма.
Все это наводит на предположение, что Гайдай, никогда не объяснявший собственное творчество, относился к кино совершенно по-хичкоковски. То есть, если вспомнить известную сентенцию Хичкока — не как к куску жизни, а как к куску торта. Только такое, вполне циничное, отношение способно породить неизбывную «приятность» кинофактуры, повышенный игровой тонус и техническую сделанность изображения, как безусловную и достоверную.
Франсуа Трюффо заметил, что в авторимейке «Человека, который знал слишком много» Хичкок победил действительность вымыслом — тень дирижера неумолимо приближается к роковым нотам по разлинованному полю партитуры. В реальных пропорциях такое снять невозможно, тогда режиссер изготовил гигантский макет нотного листа, подсветил его сильными направленными лампами и получил эффект более реальный, чем сама реальность.
В «Операции Ы…» на оживленной улице Шурик теряет из виду страницу конспекта. Бросаясь то туда то сюда, он видит журнальный разворот, газету и, в том числе, том из шеститомника Шекспира, раскрытый на гравированной Гончаровым заставке к «Гамлету». Понятно, что никто, тем паче на улице, таким образом не читает. Но как по-другому показать, что это именно Шекспир и именно «Гамлет»? Только так и никак иначе.

Бриллиантовая рука
В «Бриллиантовой руке» Геша Козодоев, убедившись, что «клиент готов», встает из-за ресторанного столика и отправляется «позвонить мамочке». Настаиваю, что это прямая цитата из «Севера через северо-запад»: шпионские страсти начались с того, что герой Кэри Гранта точно так же отправился «звонить мамочке» в тот момент, когда посланцы нескольких разведок с нетерпением ждали, кто из посетителей ресторана откликнется на кодовое имя таинственного спецагента. Кстати, следующий затем у Гайдая культовый микросюжет о «Володьке, который сбрил усы», в целом повторяет схему хичкоковского триллера, классическую формулу «не тот человек».
Хич возвел в стилевой абсолют ауру ложной безопасности, сквозь которую мерцала черная дыра, обманка, перевертыш. Через разрезы торта проступала то странная ухмылка Нормана Бейтса, то ведущие в никуда лестницы «Головокружения». Гайдай отработал почти журнальный стиль эпохи 60-х — пластиковые покрытия, легкие несущие конструкции, яркую синтетику костюмов, твист и текучие контуры автомашин. Авторский сдвиг наступал глубже, в эксцентрической сцепке внешне логичных вещей. Брюки не превращались в элегантные шорты, тост, записанный в трех экземплярах, оказывался подносом с винными бутылками. Нейлоново-бадлоновый Геша спасался от восточной путаны, а грозная управдомша вдруг выламывалась в ориентальном танце и совершенно по-проститучьи мигала подмалеванным глазом.
Джентльмены предпочитают подглядывать
И Гайдай, и Хичкок снимали не просто красивых, но и очень стильных женщин. Визионерская природа хичкоковской эротики неоднократно откомментирована. «Каждому охота повстречать настоящую леди, — откровенничал мэтр, — которая в спальне превращается в шлюху». О гайдаевском эротизме мы знаем куда меньше, хотя он, в сущности, той же природы. Комсомолки-спортсменки у него несут не меньше соблазна, чем пресловутые хичкоковские «блонди». Бурлескная природа жанра позволяет раздевать их без преднамеренного ущерба для нравственности. Танец (обратите внимание, гайдаевские «леди» как будто невзначай повторяют пластику восточных одалисок) объясняет созерцание глазами героя, а не автора. Лиловые колготки, в которых отплясывает кавказская пленница Наталья Варлей, халатик с перламутровыми пуговицами, спадающий с роскошной Светланы Светличной, парный стриптиз, устроенный Шуриком и Натальей Селезневой над страницами драгоценной тетрадки… Немыслимо, но Гайдай вовлек в эротическую игру саму Нонну Мордюкову. Правда, опосредованно, через бред, галлюцинацию, ступор. «Наши люди на такси в булочную не ездят»… «Хорошо бы… Пива!» — «Только вино!».

Кавказская пленница
Одну из самых рискованных квази-эротических сцен Хичкок снял в «39 ступенях». Скованные наручником Роберт Донат и Мадлен Кэролл ночуют в придорожной гостинице. Кровать в комнате одна, коротенькая цепочка не дает даже отвернуться. Перекидываясь с партнершей ироничными репликами, Донат извлекает пилку и принимается полировать ногти. Хичкок устанавливает камеру на такой точке, что движения героя отчетливо намекают на акт мастурбации. В «Наваждении» есть точно такая же сцена и точно такой же ракурс. Разница лишь в том, что между героями посредничает все тот же конспект. Воистину, Гайдай работал для самого читающего в мире общества.
Черная кошка, которая гуляла сама по себе
Видел Гайдай Хичкока или не видел? Сознательно цитировал или просто мыслил в том же направлении? Стихийно воплощал смеховую культуру времени или просто избрал эксцентриаду как одну из форм стиля? Кто он, МакСеннет, отразивший кусок эпохи и не востребованный следующим куском? Или Хичкок, аппетитно резавший эпоху на куски и отложивший нож в сторону, когда эпоха перестала быть кремовой, податливой и вкусной?
МакСеннет, вероятно, очень удивился, поняв, что изменившаяся вокруг жизнь требует чтения столь ненавистных ему книг. Хичкок досадовал, разобравшись, что с жизнью больше нельзя играть в изощренные стилевые прятки и что за огрубевшим фасадом реальности больше не видны его прихотливые авторские мании. Где тут решение нашей задачи, совершенно непонятно, потому что 70-е годы в одинаковой степени отменили и эксцентрику и стиль. Все, что смог рассмотреть Гайдай в новой социальной реальности это мотоциклисты в огромных шлемах и обилие поясняющих, запрещающих или направляющих надписей. Одну из них — «Опасно для жизни!» — он вынес в заглавие своего фильма.

Бриллиантовая рука
Хич сдался, когда длина женских юбок сначала немыслимо взлетела вверх, а потом опустилась до катастрофического «макси». Гениальный вуайер мыслил на уровне классической середины, фантазируя все остальное. Гайдай капитулировал, когда общественное слово превратилось в инструктивную строку.
На этом их сходство точно кончается. Хотя Хичкок всю жизнь снимал комедии, гримируя их под ужастики, детективы и психодрамы, а Гайдай честно самовыражался в соответствующем жанре, пузатый британец постановил за правило появляться в своих картинах сам. Гайдай с не меньшим упорством показывал в каждом фильме черную кошку.
Из диалогов еще одного знаменитого и любимого фильма мы знаем, что очень трудно искать черную кошку в темной комнате. Тем более, если ее там нет.
«Искусство кино». 1996. № 9.



