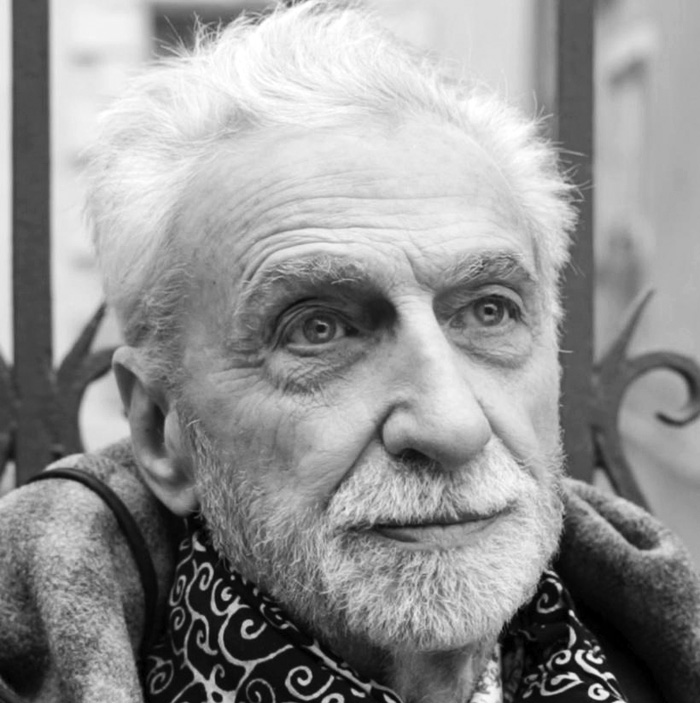Здравствуйте, мы ваши тети!
Жизнь нередко ставит нас в положения трудные, но никогда — в безвыходные. Это вовсе не значит, что выход обязательно найдется в нужном направлении и обязательно вдалеке от кладбища. Однако исконное право человека — искать выход именно в нужном направлении, а умирать, как гласит мой личный девиз, только в крайнем случае.
— Богомил Райнов. «Умирать — в крайнем случае». 1976
СЕАНС — 49/50
Было невыносимо трудно подобрать ключ к статье о фильме «Женщины, женщины», пока не пришло единственно верное и до смешного простое решение. Рассказ о данном конкретном фильме состоится, если апеллировать к нему, фильму, как к живому и разумному существу, так же, как мы апеллируем к его персонажам. Допустим, если мы говорим, что одна из главных героинь, бывшая актриса, за восемь лет до начала этой истории оставила всякие притязания как на кино-теле-театральные ангажементы, так и на внимание мужчин, и с тех пор не покидает своей квартиры, столь же правомочно будет и утверждение, что сам фильм крайне неохотно покидает эту самую квартиру и, если идет на это, то в самом крайнем случае и не упуская открывшейся возможности покрасоваться, обратить на себя внимание. Фильм такой же живой, подверженный настроениям, мечтающий быть кем-то другим и оправдывающийся за едва ли не каждый свой шаг, но прежде всего — увлеченный самозабвенной игрой, как и населяющие его люди. Нередко авторы кинокартин не справляются и со второй задачей — наполнить героев жизнью; иные, как одно время Годар, открыто выводят такую задачу за пределы своих авторских намерений, и тогда фильм становится сложным для восприятия. «Женщины» же просты для восприятия, открыты зрителю как мало что ещё, и если с фильмом связана загадка, не поддающаяся никакой интерпретации, то это по сей день сокрушительная малоизвестность, непопулярность фильма, созданного аж в 1974 году, даже у него на родине во Франции. Выпуск фильма в прошлом году на DVD и нынешние возможности интернета сделали его общедоступным, и, в свете вышесказанного, наша задача не столько истолковать фильм, сколько обратить на него внимание: как станет ясно далее, есть причины, в силу которых аудитория картины именно в России представляется нам сколь угодно широкой.

Впрочем, простота восприятия фильма не есть синоним простоты самого фильма. Он затейлив и изобретателен, как должна быть изобретательна и затейлива всякая игра, способная увлечь многих и надолго: в противном случае, если свод правил ограничен двумя-тремя и нет путей их обхода, пыл игроков скоро угаснет. Фильм же, которому предпослан эпиграф из Камю «Да, поверьте мне: чтобы жить в действительности — ломайте комедию», устроен так, что мог бы продолжать свою игру и ломать комедию бесконечно, и то, что он прерывается через два часа, кажется всего лишь соблюдением одного непреложного правила — хронометража, существующего, увы, и в человеческой жизни: об этом единственном не подверженном пересмотру правиле в фильме напоминают надгробия кладбища Монпарнас, на которое выходят окна и балкон квартиры, где окопались с солидным запасом брюта его самодостаточные героини.
Мартина привиделась ей куклой, кричавшей кукольным голосом «Мама! Мама!»
Игра начинается уже на титрах, украшенных черно-белыми фотографиями див тридцатых годов: Кэтрин Хепберн, Даниель Даррье, Греты Гарбо, Джоан Кроуфорд и еще многих, не столь нынче известных. Титры созданных в 1934 году «Веселых ребят» Григория Александрова тоже украшали физиономии Чаплина, Китона и Ллойда, после чего следовала надпись, что эти товарищи «в фильме не играют». Чего не скажешь о кинозвездах с титров «Женщин». Обложками старых журналов «Синевю» с этими их портретами увешаны стены квартиры, где живут главные героини «Женщин», две актрисы — бывшие жены одного режиссера, и крупные планы того или иного фото (и изображенной на нем звезды) часто вторгаются на территорию фильма — точнее, становятся ее частью. Иногда выполняя функции греческого хора: героини дважды обращаются к текстам Расина — один раз в гриппозном бреду, другой — в рамках репетиции выступления той, что выходит, на поэтическом вечере. Чаще — позволяя использовать открытый советскими кинематографистами двадцатых монтажный «эффект Мозжухина». Порой — подсказывая героиням, как держать себя в той или иной ситуации: корчась от желудочных спазмов и поняв, что ее крики становятся уже монотонными и не способны держать аудиторию в напряжении, Соня (так зовут ту, что выходит) шарит глазами по стенам, останавливается на фото Кроуфорд, сцепившей в жесте отчаянной мольбы кисти рук, и тут же прибегает к этому жесту.

Старые фильмы, пьесы, песни спешат на помощь героиням — как и многим из нас — в минуты растерянности, подсказывая, как вести и держать себя в ситуации, с которой в жизни они столкнулись впервые («В нашей жизни пока не было ничего подлинно трагического», — говорит в сцене репетиции «Андромахи» Элен, та, что восемь лет сидит дома). Так же фильм Веккиали меньше всего настроен изобретать велосипед; он охотно использует культурный штамп там, где это только усилит зрительское сопереживание, пробудив ассоциации, закрепленные и увековеченные массовой культурой, эстрадной песней, например. Здесь, пожалуй, как и в случае с полной песен из старых американских фильмов и прочих ассоциаций с Голливудом тридцатых-сороковых картиной Скорсезе того же 1974 года «Алиса здесь больше не живет» (она была выпущена в советский прокат, но не получила того же зрительского отклика, что в США), коренится та смысловая и эмоциональная нагрузка, которую наш зритель не сможет потянуть. Ну, скажем, если бы в нашем фильме был упомянут погибший в Болгарии на войне Алеша, ассоциация, по крайней мере, у определенных поколений, была бы однозначной. Когда сперва непосредственно в фильме, а затем в телеспектакле, где играет Соня и который она смотрит по телевизору, упоминаются оставленные без матери девочки по имени Мартина, у нас, наверное, мало кто обратит на это имя внимание, хотя оно и повторено дважды в схожем контексте. Меж тем, это имя девочки из широко известной во Франции песни Мишеля Леграна Les enfants qui pleurent («Дети, которые плачут»), сперва записанной в 1964 году на французском Наной Мускури, а два года спустя — на английском Барброй Стрейзанд. При значительной разнице текстов, Мартина в обоих вариантах — символ обделенного лаской и любовью детства, и пронзительность песни, ее мелодия, разбивающие сердце интонации транса в записях обеих артисток автоматически включаются в сознании француза семидесятых при упоминании одного этого имени в контексте девочки, оставшейся без матери, дешево и сердито усиливая эмоциональность эпизода. Мать Мартины в фильме доводит эту эмоцию до крайней степени, дополняя свой монолог рассказом о сне, где Мартина привиделась ей куклой, кричавшей кукольным голосом «Мама! Мама!»: Des poupees qui crient en dormant, elles crient «Papa! Maman!» […куклы, что кричат во сне, они кричат «Папа!», «Мама!»] — это строчка из песни Клода Франсуа «В сиротских приютах» [Dans les orphelinats, 1968]. Так игра в ассоциации с поп-культурой, заявленная на титрах, проходит через весь фильм, приходя на выручку то героиням (жест Кроуфорд), то самому фильму (упоминание имени Мартина), когда необходимо усилить сочувствие зрителей. Причем в случае Сони зрителями будут как непосредственно зрители фильма, так и Элен, наблюдающая ее корчи. Разрешите дальнейшие выводы предоставить делать желающим и избавить читателя от оборотов вроде «репрезентационная система».

Мы же должны вернуться на несколько шагов назад, в исходную позицию — к титрам. Они выполнены тем же самым эффектным, модным в первой половине тридцатых шрифтом, каким и титры в нашумевшей экранизации романа Агаты Кристи 1934 года «Убийство в Восточном экспрессе», ставшего квинтэссенцией стиля ретро в кино семидесятых. В Америке фильм вышел за три дня до старта «Женщин» во Франции. Идеи, понятно, носятся в воздухе; вкупе с закадровой мелодией, напоминающей музыку из гангстерского фильма с Делоном и Бельмондо «Борсалино» (1970), так нас настраивают на еще один образец ретро-кино. Первый кадр ожидания подтверждает: фильм черно-белый, в старинную креманку льется, пенясь, шампанское, ее подносит к губам крашеная платиновая блондинка в белом платье с воланами, оркестр выдает совсем уж мюзик-холльную руладу в стиле аранжировок Владимира Косма для «Не упускай из виду» (1975) и тогдашних ревю Далиды, блондинка несет креманку через комнату на определенном уровне и достаточно аккуратно, чтобы осветительные приборы позволяли шампанскому искриться, а граням креманки — рассыпать белые блики-звезды. Очень похоже на кадр из салонной комедии Эрнста Любича его ранне-американского периода и вообще весь тот тридцатнический миллионерский шик в кино, получивший название гламура и прекрасно определенный Жан-Полем Готье: «Гламур — это когда труп Джин Харлоу, заваленный лавиной, откапывают через пару недель из-под снега, а она лежит при полном свеженанесенном макияже и ни одна из ее платиновых прядей не выбивается из прически».
Зачем понадобилось тревожить тень «Бэби Джейн»?
Так что же, еще одно ретро семидесятых? Ничуть: лишь один из, пожалуй, сотни ложных следов, по которым пускает зрительские ожидания фильм. Другое дело, что ни один из этих следов, простите за тавтологию, не проходит бесследно, а отзывается в более поздних эпизодах затухающим эхом. Так источниками отражения света для характерных в американских и западноевропейских операторских работах первой половины тридцатых бликов-звезд по ходу фильма будут становится все менее подходящие, нежели креманки и кулоны, предметы, пока — как в «Собаке на сене»: «Вот вам наказанье за то, что вы роняли свет на недостойный вас предмет» — источником бликов не станут нацепленные на голову Элен пенсионерские очки, и прием, таким образом, не скатится в откровенную автопародию, а фильм не посмеется над собой. Вообще, заметим на полях, утверждение, что стиль ретро возник именно в американском кино начала семидесятых, ставшее отправной точкой многих исследовательских работ, посвященных ретро-аллюзиям, в том числе русскоязычных, если и базируется на чем-то осязаемом, так это, пожалуй, на одной из первых голливудских широкомасштабных, охвативших внекиношные сферы рынка, рекламных кампаний, связанной с выпуском «Великого Гэтсби» (1973). То, что утверждение это лживо, можно узнать хотя бы из романа уже упоминавшейся Агаты Кристи «Пять поросят», появившемся в 1942 (!) году. В нем Пуаро, расследующий убийство шестнадцатилетней давности, опрашивает свидетелей давнего преступления, один из которых — подлинный убийца — роняет фразу: «Возрождают ведь мелодии прошлого, старинные водевили, давние моды… Отчего не возродить и давние убийства?» На русском языке роман был опубликован еще в 1969 году, под названием «Шестнадцать лет спустя»: прежде чем тиражировать заблуждение, сгенерированное через четыре года американскими рекламщиками, нам всем следовало бы вспомнить веское свидетельство, что уже было у нас под рукой.

Итак, Элен — платиновая блондинка, весьма немолодая, это она — проносит креманку с брютом через увешанную обложками старых киножурналов гостиную ветхой парижской квартирки, к противоположной стене, где ее с мрачным видом поджидает также немолодая шатенка Соня. Она выбивает креманку из рук Элен; следует обмен репликами: «Бездарь!» — «Поденщица!» Женщины приседают и складывают руки в позе, напоминающей о фильмах восточных единоборств, и Элен переходит на английский: You offended me! You offended my… temple! , что означает «Ты оскорбила меня! Ты осквернила мой храм!» и, скорее всего, позаимствовано из одного из тогдашних гонконгских фильмов, неизменно препотешно дублированных на английский; эти фильмы в 1974 году составляли треть репертуара парижских кинотеатров. Далее следует ссора двух актрис — одна оставила всякие попытки высовывать нос из квартиры, а другая еще рыпается — недовольных друг другом и совместным бытом, с болезненными затрещинами, якобы случайными. Английский вкупе с коротким детсадовским платьицем и детским фартучком, в котором в следующей сцене Элен, подпрыгивая, принесет поднос с завтраком в постель Соне, отсылают к другому фильму о бывших актрисах, превративших совместный быт в ад, — «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962) с Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Но когда кажется, что авторы вторгаются на замшелое болото этого психологического триллера, все заканчивается смехом, оговорками с последующими поправками («писсуар» вместо «пеньюар» и т. п.) и/или весьма поучительными актерскими советами от Элен — дамы прогоняют текст пьесы, на генеральную репетицию которой спешит Соня. Зачем понадобилось тревожить тень «Бэби Джейн»? Очень просто: фильм, где действуют две пожилые актрисы в одной квартире, вводит цитаты из фильма о «Бэби Джейн», чтобы сказать: «Я знаю о его существовании». Как к «Бэби» ни относись, он мгновенно стал объектом культа и остается им по сей день. Так что, воссоздавая внешне схожую ситуацию, чтобы тебя не сочли дураком, необходимо сразу сообщить жрецам этого культа: «Да, знаем, видели», и уже, сбросив эту обязанность с плеч, двигаться дальше своим путем. Больше аллюзий с «Бэби» в фильме не будет: это, пожалуй, единственный слепой, тупиковый, след; назовем его вынужденный hommage.

Не «Бэби Джейн» вдохновила режиссера. В интервью, данном по случаю выхода «Женщин» на DVD, Поль Веккиали говорит, что для него эта картина стала идеологическим спором со сразу вышедшей у нас в отличие от «Женщин» скверной комедией Ива Робера «Привет, артист!». Веккиали, который в ту пору занимал уморительно активную гражданскую позицию во всем, что касалось современного ему французского кино, и заваливал киножурналы петициями прекратить, например, безобразие, которое виделось ему в рекордных тридцати пяти неделях съемочного периода эстетически вылизанной мещанской мелодрамки Клода Сотэ «Сезар и Розали» с Монтаном и Шнайдер, в случае с «Артистом» был возмущен тем, как это можно платить полтора миллиона франков Марчелло Мастроянни, чтобы тот изображал полубезработного хренового актера-неудачника, и в своем роде принял вызов, решив в ответ и назидание «снять фильм о хреновых актрисах с участием хреновых актрис» (обе на момент создания «Женщин» сидели без работы, а Соня — вообще родная сестра режиссера). Реакция Веккиали на «Артиста» фантастически точно совпала с тогдашней же реакцией на эту картину бесконечно далекого от него советского режиссёра Станислава Ростоцкого, озвученной последним на страницах журнала «Искусство кино» (№ 1 за 1975 год) в рамках интервью, данного им по поводу конкурсной программы Карлововарского фестиваля-1974, где он заседал в жюри: «Великая кинематографическая держава Франция по совершенно очевидным причинам не получила в прошлом году никакой премии, будучи представлена фильмом Ива Робера «Привет, артист!» с участием популярнейшего актера мирового кино Марчелло Мастроянни. Мастроянни, на мой взгляд, полностью разрушает художественную систему фильма в роли маленького актера-неудачника. Ведь все знают какой актер Мастроянни; в роли жуликоватого участника эпизодов (таков он в картине Робера) видеть его настолько неестественно, что доверие к образу снимается в самом начале».
Видимо, имел место технический брак, но как это сыграло на руку фильму!
Тут сам текст подвел нас вплотную к тому, что мы давно обещали сообщить: почему язык фильма «Женщины, женщины» так прост и естественен именно для зрителя, выросшего в СССР. «Женщины» почти исключительно сняты в одной квартире и план-эпизодами: это когда продолжительная (до двадцати минут) сцена сначала репетируется двумя-тремя-четырьмя (здесь) актерами, как в театре, но с ними вместе репетирует и камера, которая становится, если участников четверо, соответственно, пятым актером, и наравне с другими отрабатывает свои траектории: когда к какому из исполнителей подойти, когда, скажем, проследовать к входной двери, после того как в нее позвонят, и так далее. А после того, как движения всех актеров и камеры синхронизированы согласно режиссерской задумке и тщательно отрепетированы, приступают к съемке. Самым знаменитым фильмом из план-эпизодов будет, конечно, хичкоковская «Веревка» (1948), но на заре звукового кино, когда кинематограф был в целом как никогда близок запечатленному на пленку театру, этот прием был вообще чрезвычайно распространен. Так вот, в центральноевропейских кинематографиях, как это и бывает в кинопровинциях, отстающих от киномоды на десятилетия, он жил на правах одного из магистральных способов организации кинодейства вплоть до семидесятых и, разумеется, в жанровом кино, которое не ищет новых путей. Нам повезло досконально знать этот кинематограф, поскольку вся центральная Европа после войны отошла к социалистическому лагерю, и все эти фильмы как были, так и остались доступны нам в отменном дубляже по сей день. Возьмите какую-нибудь, к примеру, венгерскую «Фальшивую Изабеллу» 1968 года с Евой Рутткаи, и вы увидите, как сцена допроса четырех оказавшихся возле дома заколотой старухи в момент убийства людей пятью полицейскими (одновременно делают свое дело и дают показания судмедэксперт и прочие) снята в комнате, где в кресле расположился труп, именно план-эпизодом. Для нас этот стиль не был вычурным: он был обычным языком того, что в прежние времена смотрел повсюду народ — самых заурядных детективов, шпионских драм, салонных комедий и т. п.

Далее: в том же 1974 году плучековский Театр Сатиры делает телеверсии трех своих ударных спектаклей, и все они прописываются в нашей праздничной телесетке этаким неоспоримым комедийным комильфо на долгие годы (канал «Культура» балуется ими и по сей день). Звук там записывался вживую, изображение с ним синхронизировано, и, если реплика продолжается на монтажной склейке, уровень звукозаписи произносящего ее персонажа прыгает. То же происходит на монтажных склейках в «Женщинах», в первую очередь в сцене знакомства по брачному объявлению, где их, склеек, особенно много. Но в первом, самом длинном план-эпизоде без единой склейки он прыгает на крупном плане произносящей монолог Сони. Видимо, имел место технический брак (или кто-то что-то громко сказал или уронил невовремя) и две-три фразы пришлось дозаписать в студии, но как это сыграло на руку фильму! Ведь эти две-три фразы звучат так: «Только теперь я начинаю понимать… Вот почему ты никогда не ходила на мои репетиции! Ты все эти годы смеялась надо мной…». Поскольку голос Сони здесь лишен естественного эха, звучит глубже, чем в предшествующих и последующих предложениях, эти три фразы становятся мыслями про себя, и прыгнувший, дозаписанный в студии звук блестяще выполняет ту функцию, которую авторы пьес XIX века обозначали в монологах и репликах ремаркой «(в сторону)».
Все живое словно испаряется из души певицы строфа за строфой.
Еще одна общая черта — песни. Песни есть и, хотя бы, в киномюзиклах, но в «Женщинах» и телеспектаклях Плучека они являются продолжением разговора или монолога, когда накал эмоций уже не позволяет ограничиваться драматическими средствами, и персонаж, исполняющий песню, — а с ним и камера — не пляшет, а просто выходит на передний план, к рампе (или к объективу) — как когда в «Маленьких комедиях большого дома» Защипина и Миронов, блуждавшие по квартире, переругиваясь, в острый момент встают, как партизаны перед расстрелом, на передний план, и в темпе, за каким не угналась бы и Донна Саммер, начинают петь:
— Ну, сколько можно, сколько можно повторять, что мне до смерти надоела жизнь такая!
— Я вижу просто ты меня не понимаешь.
— Так что ж, опять скандал? …
— Скандал опять!

В «Женщинах» шесть специально написанных для фильма бесподобных песен, исполненных таким вот образом, лицом в объектив, причем — все разнокалиберные, от самбы до вальса, от сермяжного шансона «Нет, он был не полковник» (даже страшно, какие ассоциации с нашей эстрадой возникают, но ведь возникают же, я ж не выдумываю!) до песни об умирающих эмоциях проститутки, без которой не обходился репертуар ни одной уважающей себя эстрадной дивы, от Пиаф с ее «Милордом» до Минелли с ее «Морячками» и Стрейзанд, в двадцать один год записавшей наиболее близкую по накалу «Полуночницам» из «Женщин» I Don’t Care Much [«Мне, в общем, наплевать»], где все живое словно испаряется из души певицы строфа за строфой, как испаряется гроза из взгляда проститутки в тексте «Полуночниц», написанном, кстати, самим Веккиали.
Сравнения можно множить: так, когда третья жена и вдова Жюльена откидывает траурную вуаль и обнаруживает улыбчивое лицо, вуаль становится легкомысленным, как отброшенное горе, украшением её шляпки — точь-в-точь так же выглядит шляпка Эржи Голубки из телеспектакля «Проснись и пой».
Заплатили только электрикам и прочим намертво связанным с профсоюзом.
И совсем уже в лоб — параллели между «Женщинами» и показанной впервые на нашем ТВ через год после их французской премьеры, на католическое Рождество 1975-го, комедией «Здравствуйте, я ваша тетя!» И там и тут в сценах, где необходимо подчеркнуть комичность романтических ожиданий одного из персонажей, за кадром включают щебетанье канареек: в «Тете» — когда Казаков делает предложение переодетому бабой Калягину, в «Женщинах» — когда Элен навещает юный и стройный работодатель. Не говоря уже о том, что свое «Ну-ну, посмотрим!» Элен произносит тем же переходящим на фальцет голосом и так же закатывая глаза, как Калягин, когда произносит свое фирменное «Я сержусь на Вас!»
Таким образом, как основные эстетические принципы, так и милые нюансы в «Женщинах» настолько нам хорошо знакомы, что если французам и могли показаться чем-то вычурным, у нас плотно ассоциируются с классической подачей жанрового, прежде всего комедийного, киноматериала.
Он входит в квартиру героинь в роли потенциального жениха и излагает свод своих удручающих сексуальных фантазий.
Наш современник, постановщик ноу-баджетов «Жажда мертвеца», «Плохой и нехорошая» и удостоенного третьего места на II Коктебельском Международном Молодежном кинофестивале «Черного таксиста» Анастасия Белокурова рассказывала, что подростками, сходив по двадцатому разу на «Неукротимую маркизу», они с подругой запирались дома и играли в этот фильм. Что значит вдвоем дома «сыграть в фильм» оставалось недоступным пониманию автора этих строк, пока он не посмотрел картину Веккиали, снятую также без бюджета (заплатили только электрикам и прочим намертво связанным с профсоюзом). Героини «Женщин» играют в фильм, где есть место и смертельным обидам, и личным драмам, и белой горячке, и совсем уже безвыходным ситуациям, как убийство, депортация в наркодиспансер и полное отсутствие средств. Он будет продолжаться любой ценой, и все окажется обращено в шутку, репетицию, пробы, примерки, кроме, разве что, кладбища за окном, в которое порой уныло смотрит камера и на которое недобро косится Элен. Но смерть и есть то необходимое исключение, подтверждающее правило, которому следует фильм, с которым лично я согласен целиком и полностью и которое гласит: «Все — поправимо!» Для меня эта история одной квартиры вообще есть высший кинопилотаж, как для авторов классической эпохи детектива, тяготевшей к замкнутым пространствам с ограниченным числом подозреваемым, высшим пилотажем считалось создание идеально неожиданной разгадки убийства в запертой изнутри на все засовы комнаты, где нет никого, кроме трупа. Хотя этот поджанр нерасторжим с англоманией, а больше всего в нем преуспел американец Джон Диксон Карр (на английском, правда, материале), придумал убийство в запертой комнате соотечественник «Женщин» — француз Гастон Леру. Было это в 1907 году в романе «Тайна Желтой комнаты».
В сцене выхода вдрызг пьяных героинь на улицу начинается полный дурдом.
Когда же в «Женщин» вторгается настоящий профессиональный киноактер, фильм начинает сходить с ума. Актер этот Мишель Дюшоссуа, он позаимствован из дилогии Ива Робера о высоком блондине в черном ботинке, между двумя сериями которого он и снял тот самый фильм «Привет, артист!», что толкнуло Веккиали на создание «Женщин». В «Блондинах» Дюшоссуа сыграл прямолинейного и упорного, как сверло, полицейского, чье дело в самый неподходящий момент входить в квартиры ничего не подозревающих клоунов, подозреваемых им в шпионаже, с мордой топором и сакраментальным «Руки вверх — ваша игра проиграна!». С таким же видом он входит в квартиру героинь в роли потенциального жениха, откликнувшегося на брачное объявление, и с той же прямолинейностью излагает свод своих удручающих сексуальных фантазий. Здесь нарушается царство план-эпизода: монтаж становится по меркам фильма чуть ли не рваным, полно крупных планов, опрокинутых ракурсов, у запившей не на шутку Сони так и вовсе начинаются зоопсии с игуанами — богатство современного киноязыка представлено как чистый воды бардак.
В двух же сценах, где фильм покидает квартиру, его оставляет самозабвенность, с какой он живописует, поэтизирует самозабвенность приключения героинь в четырех стенах своего жилья, и он принимается всячески обращать на себя внимание, сигналить: «Эй, Вы не забыли, что это кино?». В сцене в баре одна из посетительниц не выдерживает и обращается к бармену Виктору: «Марсель, почему все называют тебя Виктором?» (действительно, исполнителя роли Виктора зовут Марсель). А уж в сцене выхода вдрызг пьяных героинь на улицу начинается полный дурдом: в витрине за спиной Сони, у которой она, размахивая бутылкой, горланит пьяные песни, отражается ровный строй зевак, как это бывает, когда за выгороженным пространством на тротуаре снимается кино (сравните с парижской уличной сценой с Делоном и Юргенсом в «Тегеране-43», 1980, реж. Александр Алов и Владимир Наумов), а когда Соня, хохоча, срывает с подскочившего к ней полицейского фуражку, Элен нейтрализует того словами: «Отойдите, вы мешаете: мы снимаем кино». Фильм уже не самозабвенен: он отчаянно рисуется. Ибо самозабвенность — то, отчего люди так любят сидеть дома и что не удается сохранить, заперев снаружи дверь своей квартиры.

Хронометраж журнальной статьи велит закругляться и нам. Сказав немало, мы почти ничего не рассказали о сюжете и смысле фильма — намеренно, чтобы он сохранил интригу для будущих зрителей. Мы провели вас всего несколькими его тропками, далеко не всеми, просто на наш вкус особенно живописными. Но, смеем надеяться, вы поняли, что фильм полон ими, переплетающимися, теряющимися и вновь возникающими, порой заводящими в тупик — как в большом парке. А парки тем и хороши, что все — и озорной прогульщик, и одинокий пенсионер, и влюбленная парочка, и хозяин с собакой — не нарушив покой друг друга, найдут в нем свою, незабываемую тропинку1.
1 «Незабываемая тропинка» — название японского фильма 1959 года о слепом мальчике-скрипаче.