Кинематограф и его двойник
В материале упоминается Борис Гребенщиков, в 2023 году признанный Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны ставить читателя об этом в известность.
Marsch links — zwei, drei…
СЕАНС — 15
Кажется, именно «Одиночное плавание» Михаила Туманишвили впервые обнародовало радикальный вариант расправы с гипотетическим врагом при обоюдном исполнении служебных обязанностей. Конечно, иностранцев в нашем кино убивали и раньше. Были «Похищение «Савойи»», полузабытые «Сокровища пылающих скал» или суперкассовые «Пираты XX века». Однако, в каждом из этих фильмов смертельный антагонизм имел конкретную подоплеку — клад, гангстерская разборка или вульгарный грабеж. Во-вторых, враг там был во всех отношениях преступным элементом. Его биография пирата, угонщика или недобитого наци не сейчас начиналась и, по всей вероятности, не скоро кончилась бы. В-третьих, летальный исход частично искупался формулой авантюрного зрелища. В конце концов, если по законам жанра положено стрелять, надо в кого-то и попасть. Да и положительный герой действовал в структуре индивидуального приключения, но не в области политических интересов великой державы. Шоковый эффект «Одиночного плавания» состоял в нарушении известного стереотипа. Пуская в ход оружие, наши десантники намекали на существование некой доктрины, санкционирующей смерть. Прежде такого не было. Противника можно было связать, обмануть, распропагандировать, но до смерти убивать возбранялось. Правящая идеология поделила мир по классовому принципу. В этой сугубо вертикальной картине человеческая жизнь подчинялась общей задаче, а частный индивидуальный инстинкт агрессии или — наоборот — самосохранения как будто и не существовал.

Здесь очевиден отголосок предвоенного лозунга о том, что советские и германские рабочие не будут стрелять друг в друга, но договорятся на почве общих исторических интересов. Девиз раскинулся настолько широко, что накрыл даже столь неангажированную картину, как «Окраина» Барнета. Купчик выталкивает под пули сапожника. И наоборот — лишившись собственного сына, русский отец усыновляет пленного немчуру по принципу классового, ремесленного родства.
Там было красиво — значит можно. Тут некрасиво — значит нельзя.
Теперь проведите мысленную прямую на много лет вперед и вспомните финал «Кавказского пленника» Сергея Бодрова — картины, чья верность или неверность правде чеченской войны официально не подтверждена, но и не опровергнута. Аксакал передергивает затвор и ведет в расход русского мальчишку. Но мы, зрители, уже точно знаем — старик не выстрелит, не возьмет кровь за кровь, потому что за него так решили авторы. И непонятно, чего здесь больше — внутреннего драматургического просчета или инерции нашего собственного, внешнего восприятия, воспитанного на том, что чужую жизнь нельзя отобрать без разрешения свыше.
В прежние времена доктрина не баловала излишними подробностями. Опускались ружейные стволы, замирали в полете штыки и сабли — в последний момент идеология окликала свою паству, грозила пальцем и напоминала, что противника можно истреблять в ходе стратегической операции, но нельзя в поединке (наверное, каждый советский человек испытал потрясение, прочтя главу из «Василия Теркина», где с неожиданной жестокостью написана именно дуэль. Два мужика, размазывая кровь и сопли, бьются по колено в снегу. Наш побеждает некрасиво и неспортивно — шмякнув фрица незаряженной гранатой).

Сделайте нам красиво
Насилие в нашем сознании и на нашем экране всегда воспринималось серьезно. Когда на заре перестройки из подвалов поднялись питерские некрореалисты, их упрекали не столько за показ массовых побоищ и суицидов, сколько за откровенный, подчеркнутый идиотизм авторского дискурса. Характерно, что в то же время по экранам победоносно шествовали климовские «Иди и смотри», где макабрическая эстетика облагораживалась цветом, ракурсом и красиво-тревожной музыкой. Там было красиво — значит можно. Тут некрасиво — значит нельзя. Зрителей некрокинематографа всерьез раздражало, что им показывают «плохо сделанное» кино — на просроченной пленке, неряшливое, с едва различимой картинкой. Как будто, стань картинка лучше, самозарезывание оказалось бы более уместным. В этом смысле заслуга Юфита сотоварищи в том и заключается, что они компенсировали народу отсутствие «слэпстика», идиотской комедии положений, где все падают, кувыркаются и разбивают носы. Ранняя комическая потому и называется ранней, что присуща детству культуры, ее младенческому возрасту, когда очень жестокое и очень смешное еще неразличимы, слиты. У нас, как водится, идеологическая свобода настала без учета уже сложившихся культурных табу — некрокино всерьез раздражало не только «гомо советикус», но и вполне продвинутую аудиторию. Дети, впрочем, смотрели его с неизменным весельем.
Избиение одних другими есть всего лишь один из законов, так же неизбежных, как и рождение, смерть или встреча мужского и женского.
Надо учесть, что в оригинале идеология предполагала два равновероятных подхода к проблеме. Там, где обижали «наших», все было всерьез. Когда доставалось «ихним» (врагам, классово чуждым и социально далеким) — допускалась толика эксцентрики и комизма. Это есть уже в «Стачке» Эйзенштейна. Оскорбленный рабочий накладывает на себя руки с пафосом, трагично. Его смерть отзывалась в деталях (отброшенная табуретка, упавший с ноги башмак) и в реакции, лицах окружающих (судя по архивам, Эйзенштейн задумывал сцену еще круче. В черновых набросках сценария есть вариант перерезания тела пополам электрическим проводом и падение в кипящий металл, отчего жертва превращалась в некое подобие железного андроида из «Метрополиса»). При этом эпизод расправы над контролерами венчался откровенно комичным аттракционом — лягушка каталась в форменной фуражке, будто в лодочке.

Слышите, не стреляйте!
Мораль очевидна. Художественные средства употребляются на то, чтобы поднять, усилить скорбь по «нашему» и наоборот — на снижение жалости к «ихнему». Позднее в «Броненосце» убийства офицеров будут даны на общем плане и в почти акробатических ракурсах, в то время как смерть Вакуленчука разбита и растянута на несколько планов: простреленный затылок, кровь на руке, падение, статика.
Проще всего считать, что Эйзенштейн, для которого жестокость была одним из важнейших средств зрительной атаки, выпустил джина из бутылки и обосновал идеологию насилия. Надо было увидеть «Броненосец» с оригинальной фонограммой Курта Майзеля, чтобы понять, насколько это не так. Хрестоматийную сцену одесской лестницы композитор озвучил победной, торжественной музыкой. Звуковая подсказка все расставила по местам. Стало ясно, что у Эйзенштейна, в сущности, нет деления на «хороших» и «плохих», «наших» и «не наших», что и царские сатрапы, и горожане — это статисты в диалектическом верчении мира, где избиение одних другими есть всего лишь один из законов, так же неизбежных, как и рождение, смерть или встреча мужского и женского.
Золотой век советского кино разрешил женщинам целиться в мужчин из огнестрельного оружия и доносить на них в соответствующие органы.
Ясно, почему вопреки исторической достоверности и попросту доводам здравого смысла, Эйзенштейн закрыл брезентом обреченных на смерть матросов «Потемкина». На русском флоте так никогда не расстреливали, но в пластической антитезе кадра копошащаяся бесформенная масса ассоциировалась с женским, а ровный ряд винтовок экзекуторской команды — со структурно-мужским (теперь вспомните, что в момент классового прозрения винтовки палачей опускаются). Нечто похожее есть и в сцене одесской лестницы, и в эпизоде штурма «свиньи» из «Александра Невского» — ряды русских дружинников волнами набегают на сплоченное каре тевтонов и, оставив на снегу чернеющие тела, откатываются обратно.
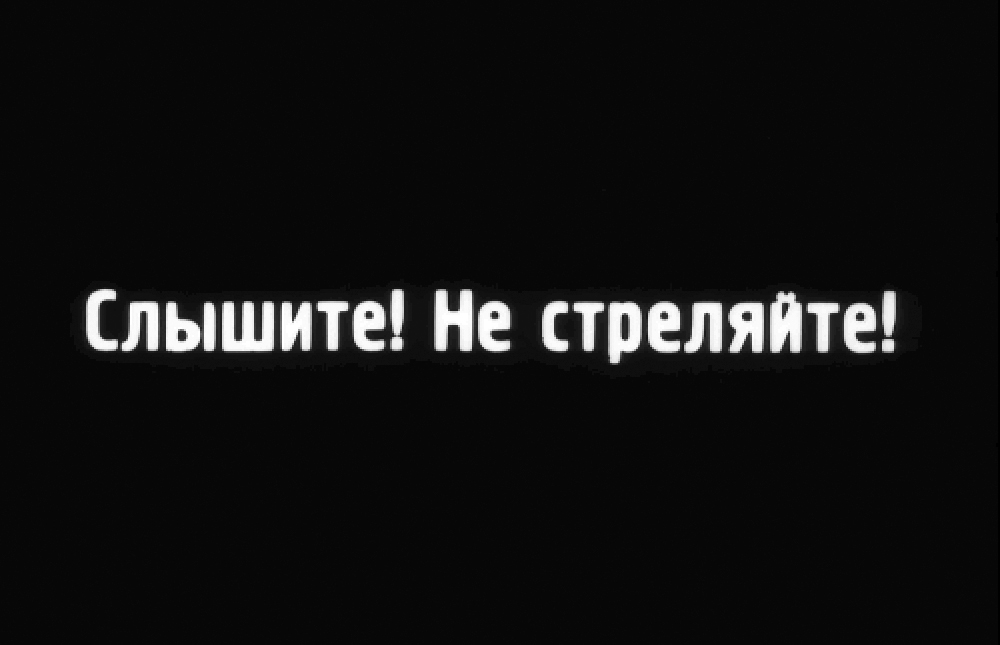
Смерть золотого века
Развернувшись в полную силу, империя презрела достижения героического периода. Эксцентричное насилие исчезло даже по отношению к врагам — в фильмах 30-х годов они ровными рядами ложились под метким огнем наших пулеметчиков, не обременяя зрение излишними физеологическими подробностями.
Впрочем, как совершенно верно написал Ноэль Берч в своей книжке «Theory Of Film Practice»: «Цензура (внешняя и внутренняя), заботясь о комфорте зрения, следит за содержанием, но не за формой кинообраза». В этом смысле насилие на советском экране шифровалось весьма прихотливо.
Война, хоть и объявленная Великой и Отечественной, принесла настоящую смерть и потребовала реальную, а не идеальную цену.
Вспомним только один пример. В пырьевском «Партийном билете» харизматический красавец-кулак Абрикосов охмуряет пергидрольную партийку Аду Войцик. Понятно, что потомственная пролетарка и фанатеющая большевичка теряет бдительность не просто так. Тема телесной власти врага над слабым женским телом не впрямую, но выраженно проходит через всю картину. И партийную книжицу разомлевшая Анна выпускает из рук в том числе и потому, что встречается с мужем-оборотнем не только на собраниях. Однако когда в миг разоблачения Павел решается в очередной раз испытать на жене силу своего маскулинного гипноза, он получает вертухайский окрик и револьвер в лицо. Предфинальная сцена «Партийного билета» вполне годится в качестве эпиграфа к концепции насилия сталинской эры. Роскошный мужик, вертясь ужом, ползает в ногах у женщины, чья бледная немочь укреплена самой передовой в мире идеологией. Реванш за физическую пассивность рифмуется с сублимацией жертвы. Эйзенштейн показывал конфликт мужского и женского как правило диалектики. Золотой век советского кино разрешил женщинам целиться в мужчин из огнестрельного оружия и доносить на них в соответствующие органы. Насилие перестало быть индивидуальным эксцессом или хотя бы издержкой борьбы за ощутимый результат. Дух окончательно возобладал над телом.

Если дорог тебе твой дом
«Действительность стала много страшнее любого, даже лишенного вкуса воображения. Книги и фильмы о нашей правде, о нашем народе должны трещать от ужаса, страданий, гнева и неслыханной силы человеческого духа», — эту дневниковую запись Довженко сделал в 1942 году.
Военный соцзаказ во многом пересмотрел нормативы «большого стиля» сложившегося в 30-е годы. Война, хоть и объявленная Великой и Отечественной, принесла настоящую смерть и потребовала реальную, а не идеальную цену. Собственно, губительный для сталинской эстетики «поворот к человеку» впервые случился именно тогда, а не в эпоху хрущевской оттепели. Во время войны ожили табуированные прежде жанры. Мелодрама «Жди меня» и авантюрно-приключенческий «Секретарь райкома» взывали уже к индивидуальному сознанию. В «Двух бойцах» советский шансонье Марк Бернес напевал не официальную «Священную войну», а душераздирающую «Темную ночь» и полублатные «Шаланды, полные кефали…»
Вероятно, нигде в мировом кино так смачно, глупо и бестолково не мучили людей, как в постсоветских фильмах.
Искусство военных лет отличало повышенное внимание к насилию. Это было поразительно жестокое искусство. «Бели немца убил твой брат, значит брат, а не ты солдат!» — восклицал Константин Симонов еще до того, как вся страна заучивала наизусть его «желтые дожди». Цивилизованный мир содрогнулся, увидя, как босиком по снегу ведут на казнь Олену Костюк в «Радуге» Марка Донского. Центральные газеты публиковали крупный план вынутой из петли Зои Космодемьянской. Людоедский «Пир в Жирмунке» почти инструктивно показывал, как вести себя на оккупированной территории.
Взывая к личности, время опиралось уже не на идеологию, а на индивидуальную ненависть, на личный счет. Дальше всех за болевой порог ступил, пожалуй, Фридрих Эрмлер. «Она защищает Родину» с одержит один из самых жестоких кадров советского кино: крошечное детское тельце под гусеницей гитлеровского танка. Это снято за пределами всякой эстетики, с твердым пониманием, что, увидев такое, любая мать и на экране, и в зале возьмется не за «Краткий курс истории ВКП (б)», а за топор — вечный спутник кровавого русского индивидуализма.

Иди и не смотри
Со временем индивидуальное насилие или индивидуальный подход в показе насилия превратились едва ли не в признак скрытого диссидентства. Корчи раненного Миронова в германовском «Лапшине» и следующий затем выстрел по поднявшему руки бандюгану воспринимались как вызов — один герой физически страдал от удара ножом, а второй, наплевав на инструкции, идеологию, мораль и уголовный кодекс, за него мстил.
Однако не выстрелил белорусский пацан из климовских «Иди и смотри» — одного из последних военных фильмов, показывающих, помимо прочего, куда и как повернулась бы тема, не будь она оттеснена социальными катаклизмами середины 80-х. Безусловно авторская картина, добрая половина которой снята субъективной камерой, благословившись библейской цитатой, вталкивает героев в круги смертельного ада. Горят дома, корчатся изуродованные люди, падает прошитая трассирующей очередью буренка, последняя икота сотрясает тела умирающих… На каком-то последнем, конвульсивном витке идеология сумела переползти болевой порог, который прежде ограждал территорию фрондерского авторства. И все затем, чтобы в финале поседевший от ужаса малец отказал в себе в святом праве пальнуть по бесноватому фюреру, прикинувшемуся младенцем Шикльгрубером.

По прозвищу «зверь»
Ясно, что насилие на постперестроечном экране носило выраженный рефлексивный характер. Об этом даже скучно писать. Вероятно, нигде в мировом кино так смачно, глупо и бестолково не мучили людей, как в постсоветских фильмах. За образец, конечно, принимался Голливуд, но там насилие всегда носило характер выверенного силового аттракциона, а не кровавой каши, где бандиты особенно куражисты, а герои особенно брутальны.
Нечто похожее случилось и в жизни. Человеческая жизнь обесценилась — в любой газете сегодня можно прочесть, как за полторы сотни и дармовую выпивку пенсионерка наняла бомжа убить мужа. С одной стороны, это чудовищно. С другой — совершенно нормально. То, что никогда не принадлежало никому, не имеет настоящей цены.
Здесь, впрочем, следует вспомнить, что война как таковая ушла из нашего кино в своем назывном, неопосредованном качестве. Будучи неотъемлемой частью мифологии убитого строя, она перестала быть полем общественной сублимации. В послеперестроечном кинематографе едва ли насчитается десяток фильмов, где стреляют по приказу, скопом переживают смерть товарища и идут «сквозь горящий Смоленск» на «горящий Рейхстаг».
Подранок-летеха побеждает не силой общей веры, а мощью личного беспредела.
Самая прямая отсылка к этому состоянию коллективной души есть разве что в очень жестокой картине Андрея Малюкова «Я — русский солдат», снятой в 1995 году по повести Бориса Васильева «В списках не значился». Коррекция временем, впрочем, видна при простой постановке фильма в ряд других экранизаций прозы советских классиков. И «Восхождение» Ларисы Шепитько, и «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого вспоминали о коллективном происхождении народной драмы. Христоподобный Сотников или апостол-старшина со своей девичьей паствой бились с захватчиками от имени всех за всеобщее счастье.
Лейтенант Плужников, упорно выживающий среди руин Брестской крепости, скорее похож на Тарзана, сменившего шкуры на обгоревшее хэбэ и кремневый тесак — на добытый в бою «шмайссер». Его война тем более бесполезна, что большая битва ушла далеко вперед, собрала новые жертвы, новые поражения и победы. Подранок-летеха побеждает не силой общей веры, а мощью личного беспредела. Сколь далеко ни увела бы нас ассоциация, но так и тянет сравнить развалины сталинского форпоста с ошметками американского городка, оставшимися на пути несправедливо обиженного десантника Рэмбо.

Между землей и небом — война
Речь, вероятно, должна идти о смене мифологического контура, о перемене мест слагаемых внутри по-прежнему значимой суммы. Это так и не так. Еще в первые годы перестройки Борис Гребенщиков [иноагент] спел о том, что «по последним данным разведки мы воюем сами с собой». «Война дело молодых — лекарство против морщин», — откликнулся Виктор Цой. Оба утверждения по-своему справедливы. Юрий Шевчук надрывно оповещал со сцены «предчувствие гражданской войны», однако, когда эта война разразилась в полную силу, сам отправился с концертами в Чечню.
В «Брате» Алексея Балабанова голос непролитой братской крови звучит громче выстрелов наемных убийц, предательства и вероломства.
Данные разведки оказались верны, но несколько преждевременны. Речь не о тех многочисленных «русских Рэмбо», которые, отгуляв законный дембель, схватывались и еще будут схватываться с рэкетом, мафией и прочими «пузырями земли». В одной из лучших антимилитаристских картин столетия — «Великой иллюзии» — Жан Ренуар объяснил, что на батальном полотне участники разделены не вертикально, но по горизонтали. Наши войны снова выставили восходящие границы. Герой «Афганского излома», например, вдоволь испив вражеской кровушки, вдруг ни с того ни с сего ощущал тяжесть «слезинки младенца» и добровольно поворачивался спиной к неминуемой пуле. И наоборот, русский пацанчик из «Кавказского пленника» не получал эту пулю от горского аксакала. Напомню, что в финале «Великой иллюзии» похожий выстрел не звучит, потому что беглецы формально уже по ту сторону границы с нейтральной Швейцарией. Социальный рубеж оказывается надежным аналогом людской этики — зачем в самом деле убивать, когда жертва находится под юрисдикцией другого государства и другого закона?
Наши пули, как и прежде, летят от сердца к сердцу.
И — от земли к небесам.
Спасшиеся от свинца все равно штурмуют готические бастионы, между которыми если нет пролитой крови, есть кровное родство, уклад, традиция, нечто имперсональное и непреодолимое. В «Мусульманине» Владимира Хотиненко бывший военнопленный сталкивается с тупой вендеттой внутри собственной семьи — ему и в самом деле было бы лучше сдохнуть, чем обратиться в иную веру. В «Брате» Алексея Балабанова голос непролитой братской крови звучит громче выстрелов наемных убийц, предательства и вероломства. Поразительно, но ставший киллером писаришка может по праву претендовать на первооткрытие нового героизма в нашем кино. Преодолев горизонтальные условности, вооружившись обрезом и пачкой добытых чужой смертью баксов, он стоит по ту сторону любой этики — социальной, гражданской, даже профессиональной. Он пощадил брата-предателя. Стало быть, остановился у той черты, которая поднимается над земными законами и уходит куда-то выше.

Куда выше? В праздничные весенние дни, когда вся страна трясет стариной между 1 мая и Днем Победы, ОРТ запустило премьерный показ «Трагедии века» — нового суперколосса Юрия Озерова, трактующего минувшую войну в масштабах карты Генерального штаба.
Значит ли это, что нас обманывают и вместо настоящего отражения опять подсовывают липового двойника? Видимо, нет.
Потому что, глядя в зеркало, человеку обмануться легко. Но в амальгаме войны, смерти и насилия кинематограф все еще видит правду.







