Двуглазый совок

Сережа Шаргунов. Фото из семейного архива
Недавно у меня был диспут в телевизоре с литератором Мариэттой Чудаковой. Она требовала вынести Ленина из Мавзолея и клевала совок, я вещал о том, что сие не актуально, о трепетной памяти стариков-ветеранов и вообще защищал прошлое. В детстве я бы себя не понял.
Я не любил Советский Союз. Вернее, советскую власть, хотя при ее амбициозности это было почти одно и то же — власть и страна. Мне было одиннадцать лет, когда беловежские подписи легли под свидетельством о смерти страны.
Зато теперь я полон грустной и прозрачной неги по отношению к СССР. Эта нега почти безоценочна. Можно говорить о скотстве и тупости. А можно говорить об особом типе людей, которые читали толстые литературные журналы, в огородах проектировали небесные драндулеты-звездолеты, верили в романтику чистой любви и «интернационального долга помощи освободительному движению Никарагуа», а еще ставили бессребренничество и идейность выше пошлого стяжательства. Так думали не все, но такие надмирные устремления были в миллионах людей. Хоть по чуть-чуть, но дребезжали в каждом, и до сих пор рынок бьется над этим «синдромом совка». Совок — это не только пресловутая убогая забитость, но и тот уникальный, облагораживающий порыв к смыслу, который отличал шестую часть земли. Порыв к трудовому, умному солнышку… Солнышко на гербе, на плече каждого школьника. Мир рынка увлекал к электрически больному неоновому солнцу казино, где опустошенный менеджер оттягивается после недели офисной галеры. Мир совка звал к рассветному, непростому, горящему над навозными полями Черноземья и дымом новосибирских заводов, зябкому, но такому подлинному светилу…
Порыв к какой-то экзистенциальной подлинности и пользе для личности (в чувствах или даже в научных изысканиях) стал нашим трендом, месседжем и экспортной идеологией вроде современных американских ценностей рынка и стандартизированной демократии.
Лучше я расскажу, как был малолетним врагом СССР. И готовил вооруженное восстание. Был таким потому, что воспитали антисоветчики. Я же сын священника.
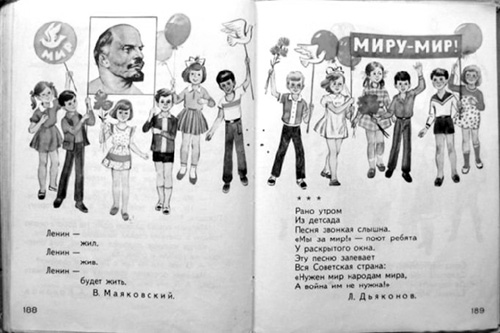
Читать я научился раньше, чем писать. Брал душистые книги, книги без обложек, с ткаными обложками без заглавий, в домашних, доморощенных переплетах, открывал, видел загадочно-мутные черно-белые картинки, переписывал буквы. Иная буква изгибалась, как огонек свечи. Плохой ксерокс. Книги влекли своей запретностью. Жития святых, убитых большевиками, собранные в Америке монахиней Таисией. Постепенно я начал понимать, что переписываю, научился читать.
В то время в Киеве арестовали мужа знакомой нашей семьи Ирины. Она приходила к нам с дочкой Ксенией. Серенькая, зашуганная девочка. С большими серьезными глазами, в которых будто дрожали какие-то лекарственные капли. Ее папу посадили за книгу. Он барабанил на печатной машинке, якобы, прослушивая квартиру через телефон, выяснили, что он за работой, и пришли с обыском, на этот звон клавиш.
В шесть лет я тоже принялся за книгу. Не потому, что хотел отправиться за решетку, просто запретность манила. Я нарисовал разных священников, и монахов, и архиереев, пострадавших за времена советской власти. Эту книгу с неумелыми детскими каракулями и бородатыми лицами в колпаках клобуков, у меня изъяли родители. Я длинную тетрадь не хотел им отдавать, прятал в пододеяльник, но они ее нашли и унесли. И с кухни долетел запах жженой бумаги. Они опасались.
Но я продолжал рисовать и писать протестные памфлеты и запретные жития. А однажды, заигравшись в страх, решил уничтожить горку только что нарисованного и исписанного, это была репетиция на случай, если в квартиру начнет ломиться обыск. Я придумал не жечь, а затопить листы. Сгреб их и уложил в игрушечную ванночку и залил водой, и краска расплылась, и запретное стало цветной бумажной кашей.
Зато мой дядя делал карьеру в системе. Дядя приезжал к нам раз в полгода из Свердловска, где он работал в обкоме. Дядя был эталонным советским человеком. Гагарин-стайл. Загляденье. Подтянутый, бодрый, приветливый, с подтянутым, всегда готовым к улыбке лицом. Улыбка мужественная и широкая. На голове черный чуб, на щеках ямочки, в глазах шампанский блеск. У него был красивый, оптимистичный голос. Дядя Гена помнил наизусть всю советскую эстраду и мог удачно ее напевать. Когда он приезжал, то распространял запах одеколона, ужинал, они с отцом пропускали несколько рюмашек, дядя облачался в махровый красный халат, вставал затемно, делал полчаса гимнастику, брился и фыркал под водой и уходил в костюме, собранный и элегантный, на весь день по чиновным делам.
Но как-то он приехал без улыбок, сухо. Сбросил пальто на диван в прихожей. Тапки не надел, прошлепал в носках. Сел на кухне бочком, зажатый. Даже мне не привез гостинца, а раньше дарил весомую кедровую шишку с вкусными орешками.
— Брат, ты меня убил… — Голос дяди дрогнул и стал пугающе нежнее. — Ты сломал мою карьеру. Я не мог об этом говорить по телефону. Теперь победил Стручков. А у меня все шло как по маслу. Ельцин меня вызвал. Говорит: «Это твой брат священник? Это как так? Как?» И ногами на меня затопал.
Дядя схватил рюмку, повертел, глянул внутрь, нервно спросил, словно о самом главном:
— Чего не разливаешь?
— Кто такой Ельцин? — спросил папа.
— Мой начальник, ты забыл? — Дядя шумно втянул воздух, откупорил прозрачную бутылку, наполнил рюмку. — Тебе моя жизнь по барабану? Он знаешь, скольких живьем ел? Воропаев у нас был. Птухина до инфаркта допилил. Ельцин — это глыба! О нем ты еще услышишь! Он не посмотрит… Ты ему палец в рот… Он Козлова Петра Никаноровича в день рождения заколол. Поздравил увольнением, а, каково? — Не договорив, дядя с решимостью суицидника опрокинул рюмку полностью в себя, тотчас вскочил и заходил по кухне.

Заговорила мама, рассудительно:
— Геннадий, садитесь, ну что вы так переживаете. А вам не кажется, что все это как-то несерьезно в масштабе жизни: Козлов, Птухин, кого вы еще называли? Сучков, да? Елькин…
— Не Елькин, а Ельцин! Не Сучков, а Стручков! — Дядя топнул носком по линолеуму. — Это аппарат! Это власть! Это судьба ваша, и моя, и всех! Зачем ты попом стал? Ни себе, ни людям… И сам сохнешь, и родне жизни нет!
Потом я сидел в другой комнате и слышал доносившиеся раскаты кухонной разборки. Так я узнал правду про оптимистичную и подтянутую, про ту систему, которая может улыбаться, делать зарядку затемно, и фыркать водицей, и обряжаться в красный халат и отутюженный костюм. Но у костюма была дырявая подкладка.
Я с первых лет знал, что не со всеми можно говорить откровенно. Был такой священник, которого мои родители подозревали в том, что он агент КГБ. И говорили: «Прости, Господи, если мы ошибаемся про невинного человека!» Он с настойчивой частотой приходил к папе исповедоваться, и когда он приходил, все говорили: «Цыц!» Его звали отец Терентий. Он источал благовоние ладана. Я брал у него благословение, вдыхал душистое тепло мягких рук, но лишнего с ним ни гугу. Был он с длинными черно-седыми волосами и лисьим выражением продолговатого лица. Все время кротко опускал веки. И еще у него был хронический насморк. Он утирался платком. От этого насморка у него был загнанно-мокрый голос, как журчание воды под люком.
— Отец Терентий, — говорила ему мама, провожая, — почему вы приходите больным? У нас маленький ребенок.
И в этих ее словах звучал намек на другое: с чистой ли совестью ходите вы к нам, дорогой отец Терентий.

Я слышал разговоры взрослых про заграницу. Но в своих мечтах я никогда не бывал за границей, все месил и пылил тут. Я дорожил нашей квартирой в огромном доме со шпилем и съемным деревянным домом на даче. Я хотел рыть окопы, ползти в траншеях, хорониться с ружьем за елью, кусая ветку, тяжелую от иголок, и чувствуя на зубах кисло-вяжущий вечнозеленый сок. Глина и пыль дорог — такой была визитка желанной войны. Я был почвенник и пыльник… Да, я часами скакал на диване, поднимая столбцы пыли, как будто еду на телеге, окруженный полками, и мы продвигаемся по стране. Выстрелы, бронетехника, стрекот и белые вспышки на ночном небосклоне, раненые, но не смертельно, друзья, и какая-то русая девочка прижалась головой к командирскому сердцу. Нам по шесть лет. Крестовый поход детей. И сердца у нас работают четко, как моторчики: тук-тук-тук.
Взятие Москвы. Ветер и победа. Размашистые дни. По чертежам заново отстраиваем храм Христа Спасителя, снаряжаем экспедицию за вывезенным в эмиграцию спасенным алтарем, снимаем сохранившиеся барельефы с Донского собора. Мой папа служит молебен на Москве-реке, кропит святой водицей тяжелые сальные городские воды, и начинается возведение огромного храма. И в то же время специальные службы приступают к очистке этой грязной загрустившей реки, чтобы она воскресла, повеселела и в ней можно было спокойно купаться, как в старину.
Перед школой я создал БЗС. Напряженное, подпольное название, как самодельный пистолет на взводе. Борьба За Свободу. Программа БЗС сводилась к подготовке освободительной войны. Для этого БЗС нужно было обзаводиться верными сторонниками и запасами оружия, поначалу холодного. Вилы, косы и ножи — тоже дело. В классе я единственный не вступил в октябрята. Да что там, во всей школе был таким одиночкой! (Через три года, когда начнут принимать в пионеры, уже трое — я и двое сагитированных мной одноклассников — откажутся от красных галстуков.)
12 мая — мой день рождения. Мне исполнится восемь лет. Будет много гостей. Алешка, Петька, одноклассник армянин Арам, Ванька с Машкой со двора, будут доверчивые души, которые нетрудно повернуть. Нас оставят в гостиной наедине с нашим детством. Соберется нас человек пятнадцать. А когда взрослые заглянут, чтобы насладиться тем, как именинник дует на восемь свечек и фитили распускают дым над шоколадным тортом… Тут я вспоминал книгу «Малыш и Карлсон» и фантазировал, что вместо пухлого сказочного человечка с пропеллером взрослые, заглянув в гостиную, увидят направленный из-под крахмальной скатерти пулемет… Ну и? Ахнут не меньше, чем если бы увидели Карлсона!

Пулемета не было. Да и показывать взрослым до времени нельзя ничего, даже самое простое: пять финских ножей, букет железных дубинок, специальные спички, уверенно полыхающие в любую погоду, канистру с бензином. Последний предмет друг Петька уворовал у своего деда и запрятал у меня в подъезде там, где якобы заколоченный подвал, но доски-то отгибаются, и белеет в темноте, ждет своего жаркого часа пластмассовая канистра. Петька был крайне самостоятелен для своих восьми лет, канистру он унес из дедова гаража и спокойно дотащил до меня. У меня уже хранился и флаг, бело-сине-красный с золотым двухголовым орлом. Знамя, в ту пору экзотичное, смастерила девочка-соседка Аня, умело разрисовавшая обыкновенную наволочку.
План нашего восстания был невразумителен, как народная сказка. План восстания. Я выложу его в прошедшем времени, так, будто он был осуществлен.
Мы сидели за праздничным столом. Я произнес застольную речь. Закончил ее призывом. Квартира была на втором этаже, и, сказав громко: «Боремся за свободу!» — я отвернулся от стола и взглядом через стекло перелетел двор — поле, созревшее для битвы. От этого двора я вернулся в гостиную к обращенным на меня лицам детей и добавил негромко: «Идем на войну».
Торопливо надевали ботинки, гулко бежали вниз по ступенькам. Притормозили возле подвала, кто-то вытащил канистру. Бешеная, раскатисто кричащая «Ура-а-а!» гвардия гостей вынеслась в майский покойный вечерок и понеслась через двор. Вперед, рывок за рывком. Кто-то быстро выкопал железные палицы и перенес внутрь избы. Кто-то ринулся к деревянной горке, поставленной в десяти метрах от избы. Горку следовало поджечь. Несколько поливов из канистры. Чирканье негаснущей спичкой. Пламя занялось…
Это было в восемь часов вечера, двор был пуст. Несколько стариков с ребячьей прытью встали с лавочек, и за ними хлопнули двери подъездов.
Мы разделились. Десять человек забрались в избу и засопели над железными дубинами в ожидании. Пять вместе со мной остались у пожара, затанцевали, закричали, замахали флагом с орлом, тоже ожидая. Мы ждали, пока на высокий костер приедет милиция. Она приехала. Приехала и «скорая», прибыли пожарные. Но главные — милиционеры.
Трое милиционеров (почему-то в моих фантазиях их было трое) шли к догорающему безобразию — чадящему остову детской горки. Шли грузно ко мне и другим детям разобраться — строгие и надутые. Тут-то и выбросился из детской избы отряд детей с ножами и железными прутьями. Ошеломительный налет превосходящими силами. Милиционеров разоружили. Взяли их пистолеты.

Вот и весь план. Дальше план обрывался… Пленных милиционеров я собирался милосердно отпустить. Я ждал реакции мирных граждан: наших родителей, жильцов дома, прохожих. Наивно я рассчитывал на них. Эхо, пульсирующее по окнам этажей, донесло до них лозунги. Они увидели, что дети подняли старый русский флаг, а начал битву мальчик Сережа из 193-й квартиры восьмого подъезда. Самые отчаянные и самые близкие вылезли на улицу. Я сказал им, всем, кто вышел, простые детские слова. Мы не любим советскую власть. Ну а кто не поддержал (дом наполовину состоял из старых большевиков), те задернули шторы и захоронились. А кто поддержал, составили ополчение, двинувшее на Кремль. Или построили баррикады и стали хранить двор свободы.
А что потом? Нас бы смяли? Или, допустим, из окон на головы атакующим злодеям полился кипяток? Или, допустим, на нашу сторону перешла войсковая дивизия? Я безнадежно плутаю в своих замыслах. Я был слишком дитя.
— Сережа, есть разговор. — Отец смотрел на меня рентгеновским сосредоточенным взглядом. — Завтра тебе восемь лет, а не восемнадцать.
— И? — пискнул я.
— Пока ты несовершеннолетний. Если что стрясется — отвечать взрослым. Ты все понял? Не надо играть со спичками. И не надо лить бензин в основание своего дома.
Откуда он узнал? Почувствовал?
Канистра с бензином стояла за фиговыми досками еще несколько лет, пока туда, в пустующую нишу, не въехала стоматология, предварительно устроив в подвале мощную зачистку и перекройку.
К тому времени бензин, наверное, уже испарился.
Теперь я наконец-то безоглядно начал жалеть пропавший совок. Лучше бы он сохранялся. Меняясь, сохранялся.
Я вспоминаю ощущение подлинности: зима — зима, осень — осень, лето — лето. При входе в отделение районной милиции висел большой застекленный лист «Их разыскивает милиция», зло под стеклом, разбойникам не укрыться. Вспоминаю кругом атмосферу большой деревни, где скандал между незнакомцами всегда как домашний, распевность женских голосов, хрипотца мужских, и голоса звучат так беспечно и умиротворенно, что даже от ребенка это не скроется.
В моей новой книжке «Птичий грипп» есть такой персонаж Серега Огурцов, он возглавляет движение АКМ (Армия Кампучийских Маоистов), и про этого Серегу так сказано: «Ну, это молодежь, которая вспоминает советское детство как сон в солнечном саду, где шмели, стрекозы, ты в полудреме, под тобой гамак скрипит. Они помнят, что в их детстве даже воздух был иной и на всем была магическая сиреневая печать «Сделано в СССР». Миф о потерянном золоте. Посуди, мы были супердержавой, самой большой землей на Земле, и строили утопию. Огурцов что видит? Беспредел и нищету. Сверстников, дохнущих от водяры и герыча. Ему бы из этого мирка брокеров вырваться куда-нибудь на удалые просторы, к Стаханову, к Чапаю…”
Наверное, это приязнь от противного. То есть новое время повернулось таким свирепым оскалом — разбоя и беспредела, — что время минувшее воспринимается как благо.
На самом деле, если совсем откровенно, я делю советское прошлое на две половины.
У советской системы было два ока: ледяное и теплое.

Теплота — это когда никто не брошен на произвол судьбы, каждый знает, что о нем помнит государство и не быть тебе бомжом и безработным. Это время беспрецедентного человеческого общения. Время, когда у моего друга-писателя, бывшего трудяги Сергея Сибирцева, рабочие его воркутинской котельной бригады на вопрос: «Что вам важнее получить: деньги или грамоту?» — отказывались от денег и брали грамоту. Чтобы на стенку вешать, детям показать, перед женой похвастать. И в этом не только высмеянный многажды абсурд, но и вера в ценности, которые выше денег. Время тоски по совершенствованию. Время, когда знакомому священнику (кстати, большому антисоветчику), у которого родился четвертый ребенок, тотчас дали четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Но было и другое око. Политическое. Тупое и мутное. Ледяное. Именно в это око я в детстве хотел метнуть ворох негаснущих спичек. Запреты. Контроль над частной жизнью и мнениями. Во взгляде этого ока багровело требование — подчиняться и прислуживать.
Так случилось, что при падении СССР вся система не исчезла. Угасло только одно око. Увы, доброе. Социальное. Теплый глаз померк.
А, как отчетливо выяснилось в последнее время, ледяная зенка жива. Совок вернулся в нашу жизнь — одноглазым циклопом. Насилие, лизоблюдство, вытеснение самостоятельных личностей, цензура и трусливое обожание начальствующих — таково скверное наследие прошлого. И весь этот мерзлый недремный прищур уже не во имя какой-то идеи. Око мерцает на страже собственности, экономического интереса.
Как спасаться?
Гасить око ледяное. Швырять в него ворохи пестрых спичек, сияющих даже на льду. И реабилитировать, отмывать, раскрывать теплое око.
Читайте также
-
Два дня хорошей жизни
-
«Помню пронзительно чистое чувство» — «Тарковский и мы» Андрея Плахова
-
«Большие личности дают тебе большую свободу» — Разговор с Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной
-
Высшие формы — «Прощайте, люди!» Анны Климановой
-
Пассивной юности мудборд — «Здравствуй, грусть» Дурги Чю-Бозе
-
Длинная дистанция — Клод Шаброль







