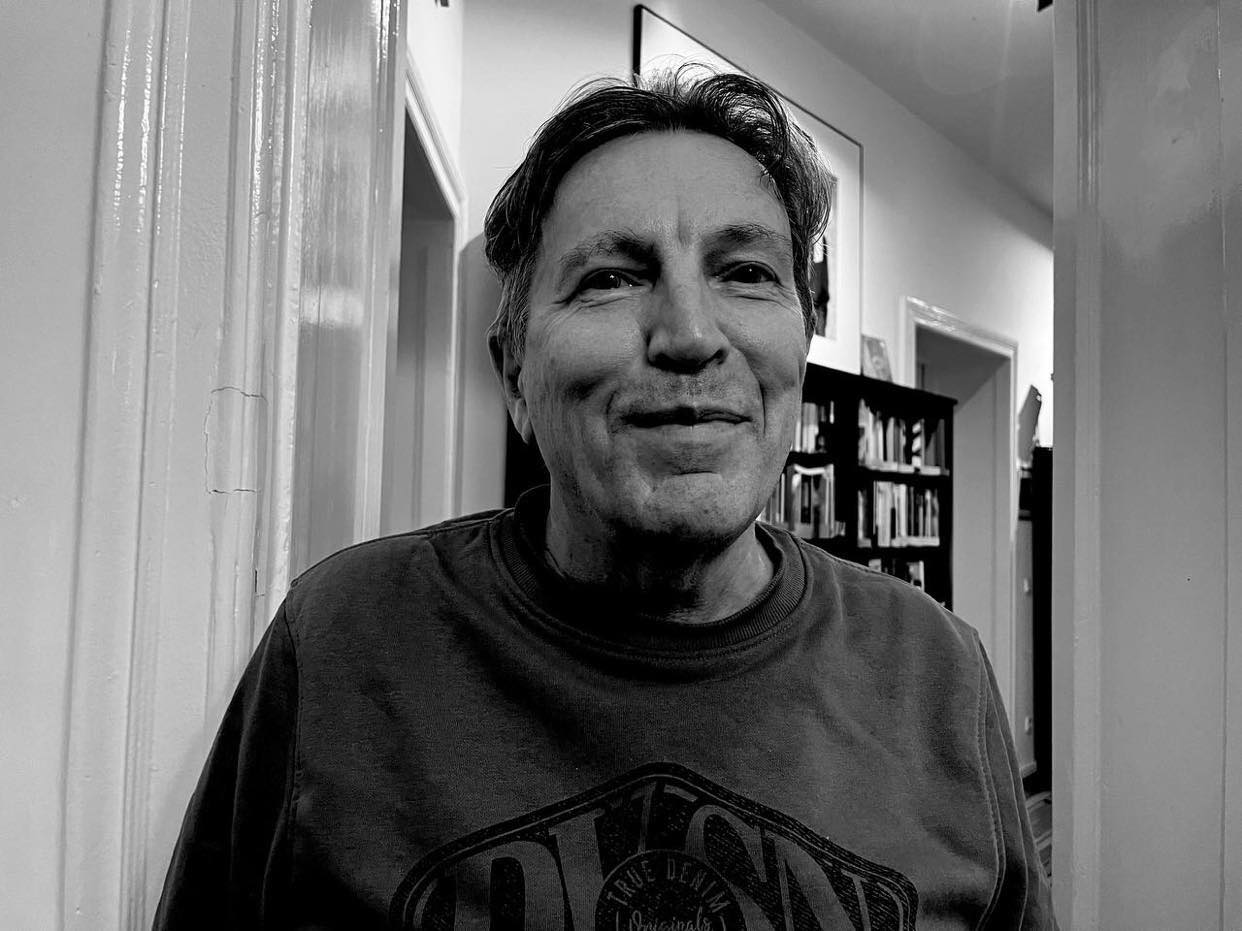Двойная жизнь Европы
Как-то Анджей Вайда, один из кинематографистов, наиболее ценимых Бергманом, не без горечи обозначил разницу между ними обоими: шведский режиссер сделал главными персонажами своих фильмов мужчину и женщину, а не улана и барышню (солдата и девушку) — как его польский коллега. Сначала первая, а потом и вторая мировая война разделили судьбу Европы пополам, оставив Восточной приоритет на народные трагедии, а Западной — на экзистенциальные драмы. В каждой из половин одна из стран служила лакмусовой бумажкой. Если Польша знаменовала начальные вспышки и затяжные последствия глобальных конфликтов, то Швеция символизировала благополучие и стабильность в двух шагах от эпицентра войн. Если Вайда, ненавидя политику и все же с головой бросаясь в нее, был романтической совестью перевозбужденного славянского мира, то Бергман, находясь в стороне, на нейтральной полосе, первым выявил больное подсознание послевоенной Европы. Жизнь Бергмана (как и не намного младшего Вайды) охватила по времени исторические кульминации века, и если он не был их прямым участником, то не и равнодушным свидетелем. Трагические катаклизмы XX столетия впервые заставили человечество осознать себя как хрупкую целостность, а человека как микрокосм, несущий в себе такой же взрывной потенциал, что и большая Вселенная. Груз, выпавший на долю этого — современного — человека (даже не говоря о смертях и страданиях), ни с чем не сравним. И тот, кто не сломался под его титанической тяжестью, поистине равен античным Атлантам. Не все протагонисты Бергмана выдерживают это испытание, но каждый стоически сопротивляется на пределе душевных сил.
Вот почему эти люди, никогда не воевавшие на вайдовских баррикадах и не партизанившие в подземных каналах, люди, живущие в комфортабельных стокгольмских квартирах или, положим, во вполне цивилизованных домах начала века, тем не менее напоминают мифологических героев. И нет большой разницы между ними и действительно мифоподобными фигурами из «Источника» или «Седьмой печати», прописанными в Средневековье. Время и место действия дела не меняют. И не потому вовсе, что эти категории у Бергмана относительны в философском смысле, а потому, что все люди — родственники, все проходят в принципе через один и тот же опыт, каждый имеет как минимум одного, а то и множество двойников. Рядом с собой, вокруг себя, в себе — тысячу лет назад, сегодня и всегда.

Кшиштоф Кесьлевский Двойная жизнь Вероники
В отличие от Вайды, герои Бергмана не становятся заложниками исторических обстоятельств. Потому что земля Бергмана населена только одним, хотя и очень обширным и разнообразным, родом людей. Их способность любить и страдать относится к свойствам родовым, а не личностным. Бергмановские мужчины в своем диалоге с оставившим их Богом (пастор из «Причастия») или в своих творческих комплексах (художник из «Часа волка») предельно эгоцентричны и равнодушны к своим близким. Зато женщины-героини тех же картин страдают вдвойне — и за себя, и за сильную половину человечества. Но больше всех страдают дети, которые с самого рождения смотрятся в зеркало грехов и мучений своих родителей.
«Как в зеркале» — хоть и неправильный, но уже ставший традиционным перевод названия одной из сильнейших бергмановских картин, которая дает ключ ко всему лейтмотиву двойничества. Он присутствует и в этом фильме, хотя на первый взгляд кажется вынесенным на периферию. Отец — непоколебимый и неприступный, как скала, Гуннар Бьернстранд — на самом деле столь же незащищен и подавлен неразрешимыми вопросами, как и его Сын — хрупкий юноша с начинающей ломаться психикой. Два мужских силуэта, прорезающие безлюдный прибрежный ландшафт, как бы замыкают на себе энергию природы, преобразуют ее в некий новый цикл. Двойственность персонажей Бергмана, их недоосуществленность в одном теле и готовность продолжиться в другом, их неуловимая текучесть не сводимы к генетике или инстинкту размножения. Двойственность заложена в натуре человека, в неискоренимой потребности его души. То, чего никогда не встретишь у Вайды: мужчины у него всегда антагонисты, и даже попытка вылепить из Ольбрыхского продолжение Цыбульского лишь подчеркнула, что вайдовская мифология не знает «вечного возвращения» и культивирует неповторимость индивидуальных черт.
Точно так же у бергмановских женщин, потрясенных грехом и стыдом, отчаянно зависимых от мужского эгоизма, не приемлющих отвратительную жестокость жизни, вдруг открывается выход, хотя и, возможно, иллюзорный. Классический дуэт из «Персоны», трио и квартет в «Шепотах и криках» — это образцы магической интеграции очень разных человеческих существ на уровне, близком к подсознанию. Это преодоление страха перед другим, перед чуждым. Это выражение мучительной потребности любви, это контакт, рожденный молчанием, шепотами и криками, болью взаимных обид и холодом отчуждения; это духовная связь, возникающая вопреки всему, отзывающаяся влечением, прикосновением, состраданием. Каждая из героинь — лишь грань мировой души, цельной и гармоничной, — души, которую Бергман воссоздает в идеальном проекте ценой постоянных усилий духа. И опять контраст — женщина в мире Вайды выступает самодостаточным объектом или субъектом провокации.
Вайда остался Вайдой даже в наиболее «бергмановском» «Дирижере», даже в своем последнем римейке собственных мотивов («Страстная неделя»), где не ощущается ни былой мощи, ни пронзительного смысла. Польский режиссер, хотя и продолжает выпускать фильмы, уже принадлежит истории — истории погибшей Атлантиды социалистического кино. Бергман, напротив, перестал снимать на пике своей кинематографической славы. И остался последним из могикан современно й кинокультуры. Он продолжает царить на своем непотопляемом острове, где впервые много лет назад разыграл драмы отчаянья и протеста.

Кшиштоф Кесьлевский Три цвета: белый
Отблеск этих драм мы находим в фильмах Кшиштофа Занусси — режиссера, определившего лицо польского кино после Вайды. Ему одному из первых удалось вырваться из плена навязанных историей ролей. В фильмах Занусси, пускай и запущенных в социалистический обиход под грифом «морального беспокойства», вместо солдата и девушки мы опять встречаем мужчину и женщину, или двух женщин — как у Бергмана. Занусси, будучи католиком, по-протестантски рационален в своих отношениях с божественным. Он, как и Бергман, посвятил себя изучению той полярной зоны, где стынут человеческие чувства. Но в нем нет ни славянского романтизма, ни скандинавской упорной одержимости.
У Бергмана, написали бы мы еще недавно, есть только один соперник в мировом кино — Кшиштоф Кесьлевский. Теперь приходится писать: был. Неважно, что они вышли из разных эпох, миров, культур, христианских конфессий, что их собственные религиозные установки не совпадали. Амедей Эйфр, искусствовед-теолог и католический кинокритик, вывел четыре формулы, в пределах которых распространяется христианская — в широком смысле — культура. «Присутствие Бога указывает на присутствие Бога» (Дрейер). «Отсутствие Бога указывает на отсутствие Бога» (Бунюэль). «Присутствие Бога указывает на отсутствие Бога» (Феллини). «Отсутствие Бога указывает на присутствие Бога» (Бергман). Кесьлевский, наполнив духовным электричеством «Декалога» банальные микрорайоны варшавских новостроек, нашел незанятую нишу в жесткой иерархии этой «тетрады», в которой не нашлось места даже Брессону. Когда польский режиссер не ощущает присутствия Бога, как в финале «Красного», он сам — разумеется, иронически — берет на себя его божественные функции и спасает своих любимых героев от гибели в морской катастрофе.
Бергман бы так прелестно-легкомысленно не поступил, зато понял бы Кесьлевского в другом. Отсутствие все же говорит о присутствии — если и не Бога, то человека, точнее, его двойника. В «Двойной жизни Вероники» так и случилось — одна девушка во цвете лет умерла в Польше, чтобы ее «двойница» пережила счастье любви во Франции. Количество счастья, как и свободы, по Кесьлевскому, в мире ограничено. И если чего-то прибывает в одном месте, значит, неизбежно убывает в другом. Кесьлевский, как и Бергман, верил не в предопределенность судьбы и не в метафизику, а во взаимообусловленность человеческих поступков. Не в абстрактную борьбу добра и зла, а в те физические и духовные силы, которые разрывают человека надвое и вместе с тем позволяют ему найти в мире свое прекрасное отражение. Неся в себе трагический опыт реального социализма, Кесьлевский не замкнулся в этом опыте и не спасся бегством в диссидентское Зазеркалье. Он заставил обе части Европы пусть не слиться, но хотя бы на миг увидеть одна другую — как в зеркале.