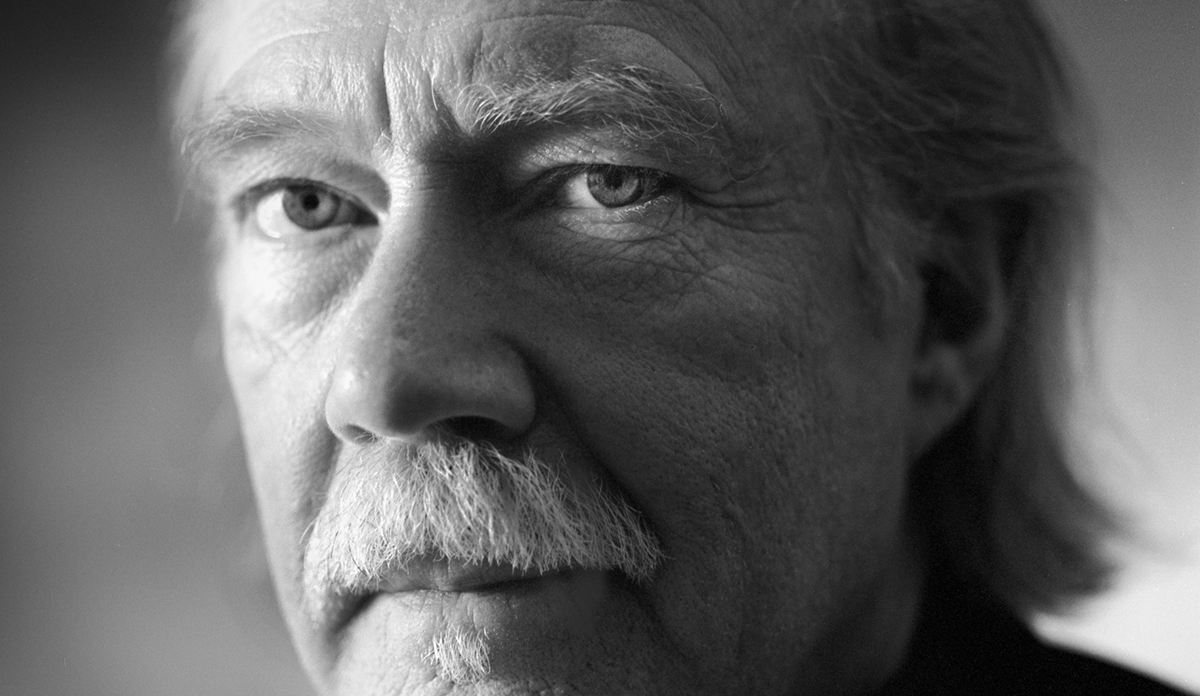DAU. Я червь — я бог
Публикуем полную версию переписки Татьяны Толстой и Александра Тимофеевского о проекте Ильи Хржановского. Кажется, именно эпистолярный жанр соответствует DAU лучше всего.
Герой данного материала, кинорежиссер Илья Хржановский, в 2024 году был признан Минюстом РФ иностранным агентом. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.

Татьяна Толстая: Проект «Дау», как нам говорят, состоит из 700 часов экранного времени; проверить это мы с вами не можем, не в состоянии, тем более, что часть этих часов совпадают с другими, накладываются на них, — вот есть некая точка в пространстве-времени, и вот через нее, через эту точку, можно провести неограниченное количество прямых (или кривых) линий. То есть сюжетов. Историй. Фильмов. Вселенная — она очень большая, хоть и не бесконечная.
Нам с вами показали девять фильмов, нам рассказали некоторое количество легенд, предварявших и сопровождавших эти фильмы, нам подчеркнули, что в фильмах нет никаких специально выстроенных сюжетов, «оно само», нет никаких рамок, рамки отброшены и отрицаются.
Но рамки — вот они; они в выборе этих девяти лент, они в обрамляющих легендах, они в том, что фильмы не хаотичны, но подчинены жестко выстроенному сюжету, практически одинаковому почти во всех фильмах. А никуда не денешься: режиссер, малый творец, следуя парадигме Большого Творца, всегда творит не хаос, но космос.
Нам показали полдюжины интенсивных любовных историй в искусственной, искаженной двойным временем обстановке. Может, с этого и начать?

Александр Тимофеевский: Давайте сначала перечислим эти девять фильмов, а, перечислив, назовем — иначе как? — хотя названий у них нет, и это для проекта принципиально, название ведь тоже рамка. Но и разговор любой рамка, и как в нем передвигаться, ничего не обозначая, никуда не ступая? — так можно только стоять на месте.
Вот мы посмотрели девять фильмов, хорошие и очень хорошие, это надо сразу сказать потому, что «Дау» до сих пор обсуждают как намеренный долгострой и попил бабла, но после виденных нами картин разговоры эти — мусор: дай бог, всем научиться пилить бабло с такими художественными последствиями.
Итак, первым нам показали фильм — назовем его, по именам главных героев, «Лосев, Даша» — вводный в тот мир, про которые все 700 часов. Потом был фильм «Катя, Таня», о возлюбленной Дау и о возлюбленной этой возлюбленной. Во второй день мы смотрели трилогию о Норе, жене Дау, — «Нора, мать», «Нора, Мария» и «Нора, Денис». В третий — были «Саша, Валера» и «Никита, Таня». И в четвертый, самый длинный день, нам показали фильм про двух буфетчиц «Наташа, Оля» и шестичасовый финал, назовем его «Финал».
Все девять фильмов на самом деле про любовь, все, кроме, может быть, «Финала», он про ненависть и творимые ею разрушения, но ведь ненависть тоже вид любви, про что и снят «Финал», в частности. Девять фильмов — очень рукотворные, выстроенные, сделанные схожим образом, с перекликающимися конструкциями, к тому же они связаны между собой, как внешним сюжетом, общим временем и местом действия, так и внутренним — про любовь, даже там, где ее формально нет.
Но про все девять фильмов нам говорят, что они сами собой сложились, потому что сложилось вдохновляющее их пространство, которое воспроизвело шарашку, закрытый советский институт 30–60 годов, и в нем 400 человек ученых, богемы, церберов и обслуживающего персонала за несколько лет прожили несколько советских десятилетий, такое шоу «за стеклом», но для интеллектуалов — шоу про вчера, даже про позавчера, но разворачивающееся сегодня.
Пространство, стилизующее жизнь полувековой и более того давности, все равно будет современным, созданным сейчас, и люди, его населившие — всамделишные ученые с нынешними научными задачами и озарениями и всамделишные церберы, кагэбешники, лагерные охранники, идейные бандиты, а также рабочие, дворники и буфетчицы, играя себя в предложенных обстоятельствах, все равно остаются, прежде всего, собою.
Хржановский это понимает, и к буквальной стилизации не только не стремится, он ее сторонится: и в дизайне, и в диалогах, и в отношениях героев, и просто в темах для научных дискуссий, которыми полны его фильмы, везде и всюду шагает 21 век. Широко шагает. Он прямо заявлен, он полноценный герой. Стилизованного музейного прошлого больше всего в тряпочках, не в каждой подряд, кстати, не в занавеске, присутствующей едва ли не во всех фильмах и иногда исполненной нарочитого анахронизма, а именно в одежде, особенно, в женском нижнем белье, с его громоздким устройством, утомительными подробностями — но в их страстном и пристрастном разглядывании изумленный сегодняшний глаз едва ли не важнее того, на что он смотрит. Сквозной обобщенный герой всех фильмов — наш костюмированный современник.
Тут прошлое на стыке с настоящим и вымысел на стыке с реальностью образуются сами собой. И третий стык я бы хотел отметить сразу — законченного и бесконечного: ни одна из историй не имеет ни названия, ни начала-середины-конца, никакой цельности, даже разрушенной, все обрывочно или, наоборот, длинно, топчется на месте, ходит по кругу, старательно избегая композиционной гармонии, которую другой автор жаждет обрести. Конечно, это тщательно соблюдаемая неряшливость. Все здесь как бы случайно, наугад выхватывается из безразмерных 700 часов, которые образцово конкретны, как любое числительное, но и образцово абстрактны, как метафора бесконечности. Есть такой космос, называемый «Дау», и его не просто постичь. 700 часов — фикция, познать которую почти невозможно, но вот она — постигай.

Конечно, «Дау» — машина времени, переносящая в прошлое. Когда я сказал об этом режиссеру, он сразу уточнил: переносящая в ад. Как старый антисоветчик охотно соглашусь, да и все приметы ада налицо. В фильме «Лосев, Даша» есть сцена, когда Лосева допрашивают кагэбешники. Лосев — ученый, согласившийся участвовать в проекте, живущий в декорации, отлично понимающий, что идут съемки, и, хотя допрашивают его, в самом деле, работники органов, профессионалы и мастера, Лосев видит камеру, по крайней мере, камера видит его: это притворство, кино, игра, но дрожит он по-настоящему, он, действительно, напуган. Игра в ад, которая пугает, как ад, тут есть, над чем думать, но сейчас зафиксируем сам ад: он несомненен.
Однако, чем глубже мы погружаемся в «Дау», тем сомнительней становится это определение. Нет, кагэбешники по-прежнему мастерят, и вполне виртуозно, и допрашивают, и пытают, и по ночам врываются, и наводят смертельный ужас, ровный, с тусклым сиянием, как мастикой паркет натирают, но ад все равно залит райским светом. И дело не только в том, что советская власть прекрасно обустроила быт своих ученых; Дау живет в огромной двухэтажной квартире, столь же комфортной, сколь и красивой, с впечатляющей лестницей, с торшерами и столами в радикальном вкусе ар деко, дивные вещи, от которых и я бы не отказался. Но дело не только в быте. В шарашке царит золотая осень крепостного права, воспетая Георгием Ивановым.
Шарашка эта про благодать рабства, в которой нет ни свободы, ни ответственности, ни выбора: все три огурца из одного огорода, а он полностью выкорчеван. Партия и КГБ, избавив ученых от свободы, а значит, от выбора и ответственности, окружили их, как крепостных крестьян, репрессивной отеческой заботой: так заведено в шарашке. Каждого в любой момент могут отправить на тот свет, но, пока они на этом, проблем не существует. Ну, их бьют иногда, это потому, что любят. Ад все больше смахивает на рай.
«Финал», в котором разрушают институт и убивают всех его обитателей, всех вообще, кроме свиней, конечно, про уничтоженный рай, тот, что казался адом. Рай-ад — важнейший стык в «Дау», уже не про устройство проекта, а про его содержание.

Т.Т.: В фильме вас могут если не убить, то, по крайней мере, сделать жизнь настолько невыносимой, что вы сами захотите покончить с собой, — правилами проекта это предусмотрено; в любой момент замученный участник проекта может сказать: все, стоп! Я больше так не могу! Но после этого он покидает проект навсегда, такова цена отказа. «На твой безумный мир ответ один: отказ». И это тоже, как в реальной жизни: ты всегда можешь покончить с собой и прекратить мучения. Это существование закончится и, может быть, начнется какое-то другое. Но в фильме, говорят нам, никто ни разу этой опцией не воспользовался. То есть участники покидали этот мир, но по другим причинам.
Хотя участников фильма, в отличие от нас, людей, не пугала гамлетовская неопределенность: что же за гранью? Известно что: конец игры, конец шарашки с ее плохим бельем и вездесущими кагэбешниками, конец тусклым коридорам и коммунальному существованию, возврат в неопасный, никем не расписанный, неигровой мир, в котором ты, в общем-то, никому не нужен, потому что, наверно, Бога нет. И камера, око божье, за тобой следить уже не будет.
А в проекте «Дау» есть Бог, он воздвиг огромную декорацию, запер тебя в клетку существования, выдал тебе правила: сюда ходи, сюда не ходи, терпи, надейся, жди ночных гостей, вот тебе здешняя таблица умножения, вот тебе здешняя таблица Менделеева, а в остальном у тебя полная свобода выбора: можешь рассуждать о создании Вселенной на своих увлекательных семинарах в душных помещениях без окон, можешь предсказывать грядущие катастрофы, можешь подвергать сомнению само существование Творца, то есть Ильи Андреевича Хржановского, можешь вопрошать о его планах и намерениях, хулить его и недоумевать относительно того, где он взял ресурсы для поддержания «Дау» и как у него тут обстоит с пространственно-временным континуумом. А если его не видно, то и пусть: космонавты тоже летали, Бога не видели. А диавол — вот он: сидит в «первом отделе» (тоже без окон, душно, жарко, как в известной пьесе Сартра, так что он непрерывно обтирается платком; ад тут не ледяной, дантовский, но классический, с пламенем где-то тут рядом). Сидит он в первом отделе, и ты придешь к нему, и продашь душу без всякой для себя выгоды, и никто не уйдет не униженным и не раздавленным.
Да, ты сам согласился, сам подписал бумаги. «Хочешь родиться в этот мир с его непредсказуемыми горестями?» — «Ей, Боже, хочу!»
(Тут я сделаю маленькое, почти не идущее к делу отступление. Главного злодея играет настоящий подполковник, «ветеран органов внутренних дел», автор книги про тюрьму «Не зарекайся», вполне себе пыточных дел мастер по фамилии Ажиппо. Единственная ассоциация у меня с этой редкой фамилией — «Аджип», итальянская нефтяная компания. Может быть, вы видели на заправках ее логотип: на желтом фоне — черный шестиногий огнедышащий зверь, обернувшийся через плечо. Безусловно, случайное совпадение, уж это-то точно. Но так шутит «некто, от меня сокрытый, кто может всё. И речи прекрати». Имя палача совпадает с именем адской собаки.)
Все время, пока я смотрела фильмы, у меня в голове все настойчивее и прилипчивее звучала известная песенка Хвостенко-Волохонского:
А ну-ка, приятель, снимай штаны,
Шляпу скорей долой,
Нынче одежды тебе не нужны —
Ты ведь поешь со мной.
Больше одежды тебе не нужны —
Лучше споем со мной.
А ну-ка, дружок, расстегни пиджак,
Вынь из него жилет,
Вынь из штанины кальсон наждак
И воротник-манжет.
Стоит пример тебе взять с моржа
И обнажить скелет.
А ну-ка взгляни на себя теперь —
Видишь стоишь хорош!
Сбрей поскорей с себя пух и перь,
Сдерни остатки кож.
Помнишь, как мамонт античный зверь
Тоже ходил без кож.
Ныне же праздный его костяк
Бьет в барабан-бидон,
Вот и остался тебе пустяк —
Сделай, как делал он.
Пусть твои кости скелета гремят,
Череп гудит в тромбон.
Каменный пуп одолеет стыд
С низом плясать гавот,
В пляске веселой забудешь ты
Печень, язык, живот.
В пляске безумной полюбишь ты
Музы моей полет. <…>

А.Т.: Да, каменный пуп одолеет стыд, с низом плясать гавот. Вот один из шедевров, «Саша, Валера», про жизнь низа, подвала в буквальном смысле слова — дворников, поваров, буфетчиц, старухи-уборщицы, про их гулянку, затяжную, с блевотиной и рукопашной, такая панорама народной жизни, в нидерландском вкусе, с персонажами прямо из Брейгеля, за которыми этой осенью московская интеллигенция ездила в Вену. Царевна-лебедь, помнится, недоумевала: зачем далеко? Ведь Брейгель — главный русский художник, и героями его полна русская жизнь, та, что отразилась в «Саше, Валере».
Из тамошней панорамы типажей постепенно вычленяются Саша 24 лет и Валера, который вдвое старше. Это натуральные бомжи, взятые в проект «Дау» на роли дворников. Саша брутально пристает к Валере, но на самом деле это Валера его соблазняет под аккомпанемент почти безостановочного мата и с передышкой на мордобой. Первая часть «Саши, Валеры» — многофигурная пьянка-драка; вторая — она же, но лирическая, на двоих; третья — секс: Саша трахает Валеру; четвертая — молитва: Валера, сидя на унитазе, разговаривает с Богом. Рядом с толчком на стене дымоход с задвижкой, и, если ее отодвинуть, Валерина молитва пойдет к Господу прямо по трубе.
Когда происходит действие? В институте Дау конец пятидесятых, эхо хрущевского коммунизма то и дело отдается в разговорах. Но сама страсть Саши и Валеры, в которой ни один из них не видит ничего экстраординарного, ни греха, ни болезни, ни преступления, такой вариант нормы, это шестьдесят лет назад не все доктора наук понимали, а про дворников и говорить нелепо, это сугубо из наших дней, стык прошлого и настоящего тут нагляден. Именно он создает объем, в котором брейгелевская поэтика оказывается уместной: обобщенное время, народ, то ли из 20, то ли из 21, то ли из 16 века, без приблизительного в своей точности духа эпохи, Русь, вывернутая наизнанку, зато с мифологической поступью. Такое выдерживает любой замах.
Что здесь от выдумки, а что от импровизации? Нам говорят: выдумки нет вообще, сымпровизированы все реплики, каждое действие. Честно говоря, в это крайне трудно поверить. Разве что старуха-уборщица, смертельно напившаяся, которая блюет в любезно подставленное ей ведро, наверное, импровизировала. А остальное? Выдумана, разумеется, вся структура, соединения, переходы от народной многофигурности к приватному общению двух, от скандалов с драками к любовному соитию, которое становится развязкой, как молитва — эпилогом.
Если все импровизация, то соитие — тоже. Значит, его могло не быть, а чем же в любовной истории должны разрешиться кровавые разборки? — только страстными объятиями. А чем разрешаются объятия? — молитвой, конечно: всякое животное после соития печально. Это понятные художественные ходы, сочиненные, неужто жизнь так ловко притворилась искусством? И потом, даже если Валера сам молился в нужнике, финалом это поставил режиссер. Дымоход с задвижкой, наверное, имелся в сортирной стене, но микрофоном к Богу он стал при звуках молитвы, и это соединение не Валера придумал.
А сама коллизия, в которой шумно домогающийся любовник на самом деле является соблазняемым, а не насильником, но совсем не понимает этого, коллизия, последовательно проведенная через всю историю, кем и как она могла быть сымпровизирована? Такое пишут в сценариях, часто без толку: актеры могут не справиться, но как это сыграют импровизирующие бомжи в присутствии постороннего дядьки с камерой? Нет у меня ответа на этот вопрос. Приходится предположить, что за Сашей, Валерой, как и за другими участниками проекта, сначала долго наблюдали, потом вытащили из их отношений сюжет, додумали его, согласовали роли с каждым по отдельности, чтоб не смущать партнера, и предложили совместно вышивать по канве, уж как выйдет. Как оно вышло, все равно не понимаю, но вышло отменно, и от этого — ощущение дикой подлинности, которое делает выдумку пленительной.

Но самый острый стык в этой новелле между законченностью и бесконечностью. Все время кажется, что «Сашу, Валеру» можно подсократить, и сильно, тут подрезать, здесь убрать, ведь есть же очевидные повторы — те же скандалы с драками, идущие по третьему, по пятому кругу. Зачем? Но именно эти повторы ценны. Чем больше навалено говна, тем ярче светит в нем золото. Безостановочный мат обрывается вздохом, робким, исполненным надежды. Если бы мата было меньше, ни робости, ни надежды мы бы не почувствовали. Они бы проскочили незамеченными. Лаконичная законченность и соразмерность частей загубили бы все дело. Кость должна застревать в горле. Нужно трудное усилие, чтобы запомнить робость, без которой нет истории, — ведь «Саша, Валера» про нежную душу, про грязь, про чистую любовь, про животное нутро, звериный рык, про высокий строй, про агрессию бессмысленную и беспощадную, про застенчивость, про ужасного и прекрасного простого человека. А он всегда на главном русском стыке — мата и молитвы.
Т.Т.: «Саша, Валера» и мне кажется одним из лучших фильмов этого проекта из нами виденных. Я очень хорошо представляю себе, какое возмущение и гнев вызвал бы показ этого шедевра на обычном киносеансе, сколько нежных, культурных, хорошо развитых душ, глаз, ушей оскорбил бы фильм. И ведь мы с вами знаем множество произведений, где мат, например, звучит ради мата, ради интеллигентского удовольствия от собственной смелости: а вот я скажу плохое слово, не боюсь! Даже виртуозы, — Юз Алешковский, Сорокин — это интеллигенты, забывшие снять шляпу и галстук перед тем, как отправиться в народ, в лес по грибы. Поэтому, как правило, мат в книге, мат с экрана — это выбор культурного человека, ведь и книга, и экран — в руках культурного сообщества.
А тут никакого выбора нет. Тут нет вариантов, нет другого языка. Тут персонажи искренне, от всего сердца говорят и кричат на родном матерном, на том, в общем-то, загадочном наречии, которое представляется человеку, сделавшему хоть один шаг в сторону культуры, грязью, говном, нерасчлененным рыком, ловким фокусом, позволяющим описать весь мир, все предметы в нем, все действия и всю иерархию мироустройства с помощью трех-четырех корней, их производных и их синонимов.
Я даже скажу лингвистическую ересь: а что, если мат — это не редукция, а первичный, первобытный язык общения хомо сапиенса, и только позже из него развивается богатый язык чувств, общения и коммуникации: рука, палка, банан, тигр, люблю, бежим?
Саша и Валера ютятся на нижнем уровне бытия: в подвалах без окон; они пьют, блюют и елозят на шконках, на матрасах, с которых все время сползает простыня, но это им все равно. Зассанные и заблеванные, дышащие перегаром, они поначалу так отвратительны, что, кажется, палочкой к ним прикоснуться и то было бы противно. И этот монотонный матерный рев: злоба? нет; страсть? может быть; просьба заметить, полюбить? — похоже, что так.
А к концу фильма, когда Валера молится на толчке, когда он делится с Господом своими печалями и надеждами, когда рассказывает Ему, всезнающему, о том, что он когда-то любил одну женщину в Пятигорске, правда, хорошую, — к этому моменту вся грязь, вся плоть и адамова глина отступает, исчезает; остается, как всегда, только одинокий сын, припадающий к коленам отца: папа, папа, прими меня, пойми меня, прости меня!
И если этого сценария никто не написал, то очень плохо, что не написал. А вот бомж, получается, написал. Рука об руку с Хржановским, разумеется.
Про Нору с вами мы сейчас поговорим, но прежде, чем это сделать, я хочу поговорить о фильме «Никита, Таня», — он задел меня больше, сильнее, чем «Нора, мать» — сложный психологический танец двух женщин, скорее любящих, чем ненавидящих друг друга, и чем «Нора, Денис» — об инцесте.
«Никита, Таня» — муж и жена, умные, спокойные, очень сбалансированные, интеллигентные, с хорошей речью, никогда не повышающие голоса, хотя есть отчего повысить. Не вцепляющиеся друг другу в волосы, хотя есть отчего вцепиться. У них двое чудесных детей — мальчик лет десяти и девочка лет трех.
Никита и Таня гуляют — взявшись за руки, они ходят по кругу, вернее, по квадрату, — это я оговорилась, вспомнив фильм «В круге первом», но так тут и оставлю, квадрат-то адов, круг тем более.
Они гуляют, дышат воздухом в этой малой вселенной, в этом замкнутом пространстве, открытом только внутри и загороженном стеною извне. Впрочем, реальный Никита Некрасов в Большом Мире и в самом деле занимается проблемами возникновения и существования Вселенной: он математик и вообще академик. Вот они гуляют по этой маленькой модели мира большого, держась за руки, как какие-то парные частицы. Никита — темно-рыжий, жена его тоже рыжеватая блондинка, нежная, белокожая. Разумная. В очках.
Никита заводит разговор издалека, и жена сначала не видит, куда этот разговор ведет, но муж решил сказать, и он скажет: «Я понял, что я могу влюбиться».

И они еще несколько метров, на автомате, идут вдвоем по заснеженному двору, по кругу — не убежать же никуда — и держатся за руки, но удар нанесен, и Таня уже иначе держится за его руку, рука ее словно похолодела, между ними уже пролегло отчуждение. (А камера, помним мы, пятится перед ними, все фиксируя, и брак их рухнул и разбился вот сейчас, перед камерой.)
Они дома, они пьют чай и едят какой-то большой и ненужный торт, они говорят о том, что произошло. Никита хотел бы вот как устроиться: поскольку он любит Таню и детей, он не хотел бы уходить из семьи. Но он хотел бы снять тут по соседству дом или квартиру, поселить туда девушку, которую он полюбил (вроде бы, как он говорит, без взаимности, но это лукавство) и ходить туда, к этой девушке, скажем, два дня в неделю. Давай так сделаем?
Нет, мы так не сделаем! Но почему же? Разве от Тани убудет? А ему, Никите, это было бы удобно и приятно. Нет! Таня пытается объяснить: это совершенно невозможно. Немыслимо. Она так не может. С ним, таким, она не может жить на этих условиях. Тогда лучше разрыв, хоть это ей и больно будет. Нет, Никита не хочет никакого разрыва. Он просто хочет ходить в соседний дом, — а денег у него на всех хватит — и там трахать эту другую девушку.
Никита спокоен, разумен и настойчив. Он сдирает с Тани кожу не рывком, а постепенно. Вот они лежат в кровати, на разных ее краях, и продолжают этот ужасный разговор. Голос Тани дрожит, но она — разумная, интеллигентная женщина, в очках. Она не будет устраивать базар. Она все понимает, правда, понимает. Она просто не хочет.
Мы потом увидим эту другую девушку, тоже рыжую, белокожую, нежную и интеллигентную, просто моложе Тани: такой типаж Никите нравится, это как бы его женская ипостась, его собственная тень, мелькнувшая в зеркале. Девушка тоже не хочет этого противоестественного менаж-а-труа, она хочет Никиту целиком, и любви его, и верности она хочет, и хочет быть единственной. Но у Никиты — любимая жена и любимые дети. Он от них не откажется.
(Из дальнейших разговоров мы понимаем, что так уже было раньше, и супруги остались вместе, потому что жена тогда была беременна чудесной маленькой девочкой, которую они теперь оба любят: еще одна цепь, которую разорвать нельзя.)
Вот такой круг ада, уж не знаю, какой по дантовскому счету: прелюбодеяние? обман доверившегося? вот такая моральная пытка, происходящая здесь и сейчас, в XXI веке и одновременно в 60-е годы двадцатого. Бедная Таня. Ее мучает не страшный палач Ажиппо, а самый родной человек, и не вырваться, и не убежать, и ничего не решить, и ни деньги никакие не помогут, ни возвращение в большой мир людей не спасет, ты заперт в квадрате во веки веков, и причем тут проект «Дау».
Этот замечательный фильм ближе всего подводит к портрету семейного ада настоящего Дау, того, который описан Корой Ландау в ее мемуарах, легших, кстати, в основу проекта Хржановского. Настоящий Дау, как нам известно из мемуаров и как подтверждают тогдашние коллеги ученого, примерно так и поступал: просил Кору застелить постель чистым бельем и уйти из дому, потому что он хочет привести девушку.
Это же не измена, которую скрывают, до поры до времени успешно, это не перемена выбора, это не новый этап в жизни: любовь закончена, расходимся! — нет, это удушье, это заключение, это здесь и сейчас, это всегда. Это словно бы про любовь, а на самом деле про тюрьму. Без окон.
А.Т.: Любовь как тюрьма — это версия «Никиты, Тани», есть и другие, но мы не сможем все обсудить. Пишущие про «Дау» сталкиваются с той же проблемой, что и смотрящие. Нельзя объять необъятное, завещал Козьма Прутков — кажется, он имел в виду «Дау». Фильмов так много, что говорить надо о проекте, о том, как он устроен, иначе мы утонем в частностях, чего больше всего хочется после просмотра, уж больно эти частности увлекательны. Но — мимо, читатель! Однако есть два фильма — «Нора, мать» и «Нора, Денис», — про которые сам бог велел поговорить, и потому, что они очень качественные, и потому, что в каком-то смысле про искусство.
«Нора, мать» и «Нора, Денис» — две части, первая и последняя, трилогии о Норе, жене Дау. Напоминаю: все названия условные, составленные по именам главных героев. Есть еще «Нора, Мария», она посередине, про греческую возлюбленную Дау, которую он приводит в дом, где живет с женой. Благородная возлюбленная дивной красоты, в фильме замечательно сделан конфликт туалетов, ее строгих платьев глубокого синего и темно рубинового цвета и веселеньких, в цветочек, колхозных нарядов Норы. Очень напряженная диалектика, но фильмы «Нора, мать» и «Нора, Денис» сильно глубже.
«Нора, мать» про взаимоотношения матери и дочери, полные любви и ненависти, где и эти чувства, и все, что между ними, проиграны по кругу, с набором скелетов, сообща вываленных из шкафа, измен, предательств, проклятий, рыданий, прощений и прощаний. Нору играет единственная в проекте профессиональная актриса Радмила Щеголева. В роли ее матери — мать Щеголевой. Никакой роли как бы и нет, есть настоящая мать, приехавшая погостить к дочери, но все в этой истории про роли и образы. Сдобные губы бантиком превращаются в фальшивый cheese, в сухую беспощадную нитку, в зубастую пасть, в изуродованный криком рот. И это растет из быта, из социума, из тягот прожитой жизни. Такие трифоновские тетки 60-х, сразу узнаваемые, полуинтеллигентные, с перманентом, в эмоциональных обстоятельствах «Осенней сонаты» Бергмана.
«Нора, Денис» про мать, пытающуюся сохранить связь с сыном, наладив с ним сексуальную близость, про общность родственного и эротического, про материнскую страсть, многообразно чувственную, про бесконечность любви. Денис, ребенок-переросток, беззащитно инфантильный, большое двадцатилетнее дитя. И матери надо его уберечь от взрослых разумных, а значит, безумных людей, составляющих институт Дау, спасти от жизни с ее бессчетными угрозами, буквально вернуть в лоно, где будет ему оберег. Соитие Норы и Дениса про двух, которые против всех, потому что все против двух, про свою мораль, семейную, в конечном счете. Но это инцест, традиционно порицаемый обществом, всегда и всеми считавшийся аморальным. Пожалуй, тут самый драматический стык проекта.
Параллельно с сюжетом мать-сын в фильме «Нора, Денис» развивается сюжет прислуга-барчук. Домработница Норы пытается сделать с Денисом то же самое, что делает Нора, однако, задача ее прозаичнее: она хочет замуж, чтобы стать барыней. Квартира большая, но хоженая, и Нора с домработницей пересекаются у ложа, на котором можно обрести Дениса, одна еще не одета, другая уже раздевается, и ни тени ревности, никакого соперничества, каждая деловито решает свою задачу, пространство общее, миры раздельные, мир Марфы и мир Марии, одна воздает кесарево, другая — Богово.
«Нора, мать» и «Нора, Денис» — «хорошо сделанные фильмы», я сейчас не про качество, а про формат, про изощренно разыгранную экзистенциальную драму, каммершпиле 1950–70-х годов. Все камерно, все очень психологично, все бесконечно пессимистично, даже полностью безысходно, с открывающимися пороками-безднами человеческой природы, как правило, с единством места, времени и действия, но в принципе это не обязательно, а обязательна продуманность всех слагаемых — режиссуры, сценария, изобразительности, актерской игры, каждого слова, любого кадра. Такая выверенная экзистенциальная драма и составила славу европейского кино 1950–70-х годов, лучшего своего времени.
Действие фильмов «Нора, мать» и «Нора, Денис» происходит в шестидесятые годы, и связь с каммершпиле той эпохи тут очевидна. «Нора, мать» заставляет вспомнить «Осеннюю сонату» Бергмана, «Нора, Денис» — «Гибель богов» Висконти, что будет, кстати, не точно: и там и там инцест, конечно, соитие матери с сыном, но «Гибель богов» елизаветинская трагедия, а не каммершпиле. «Нора, Денис», скорее, экзистенциальная драма во вкусе Бунюэля, ближе всего, мне кажется, тут «Тристана», ну или во вкусе Фассбиндера, «Китайской рулетки» и «Горьких слез Петры фон Кант», которые полтора часа крутятся вокруг картины Пуссена, ставшей обоями, как фильмы «Дау» крутятся вокруг общей в них занавески. Кстати, снимал их оператор Юрген Юргес, много работавший с Фассбиндером. У Юргеса тут совершенно выдающаяся работа, технически и художественно очень сложная, виртуозная — хотя бы одной фразой сказать об этом необходимо.
Бергман, Бунюэль или Фассбиндер — вообще-то все равно, ведь «хорошо сделанный фильм» полностью опрокинут Хржановским: он, прежде всего, не сделан. Нет никакой продуманности, ни одного отобранного слагаемого — ни сценария, ни тщательно написанных диалогов, ни написанных нетщательно, как бог на душу положит, ни актеров, которые бы их учили, ничего выдуманного, подготовленного заранее, а есть импровизация, омаж искусству 50–70 годов, созданный самыми чуждыми ему средствами. И эта чуждость тут буквально во всем, хотя бы в том, как трахаются.
Поговорим о сексе, это важное слагаемое у Хржановского. И пора как-то облегчить наш разговор, поэтому предамся-ка я мемуарам. Дело было в 1995 году, уже почти четверть века назад, снимался я тогда в фильме Учителя «Мания Жизели», первый и последний раз в жизни играл в кино, и не какого-то там дурака, а самого Дягилева, роль была, правда, плевая, на минуту, но отнесся я к ней со всей своей вечностью, приходил на съемочную площадку, когда там снимались другие эпизоды, чтобы проникнуться атмосферой, почувствовать дух, вырастить зерно и как-то попал на постельную сцену. Она была томная и по тогдашним временам откровенная, музыка журчала, занавеска развевалась, голая жопа мужчины мерно двигалась в такт, я уже проникся атмосферой, почувствовал дух, стал растить зерно, и вдруг раздался истошный крик. «Слышите, это безобразие! Это ни в какие ворота! Это просто не профессионально!!!», — возмущалась лежавшая под мужчиной артистка и явно не по роли. Что за безобразие, куда ворота, почему не профессионально? — пытались понять вокруг. Артистка смущенно молчала, потом не выдержала и трагически произнесла, как самый страшный приговор: «У него встал».
Артистка была права. Собственно, это всегда считалось главным отличием кино от порнографии. В кино все понарошку, все имитация, в порнографии, как в жизни, пиписьки должны стоять крепко. Везде в «Дау» их крепость наглядна, в любом тамошнем сексе, кроме лесбийского, и в «Норе, Денисе» с пиписьками все в порядке. Будьте уверены, депутаты их мимо рта не пронесут и, роняя слюну, первыми прибегут голосить, когда и если проект выложат в интернете. Объяснять, что они напрасно бьются в экстазе, будет, ох, не просто: все доводы не в пользу «Дау». Ладно, у Дениса пиписька стоит, и у Тесака, разумеется, тоже — он, кстати, главный герой «Финала» — так Тесак еще к тому же и кончает прямо в кадре, причем не раз, что тоже академический признак порнографии. Но именно по сцене с Тесаком видно, что это никакая не порнография — по крайней мере, здесь присутствует чисто художественная задача, от порнографии заведомо далекая.
Тесак в «Финале» трахает буфетчицу, стоит абсолютно голый, нагнув ее, и планомерно работает бедрами, долго, очень долго, тупо так, без всякой изобретательности, зато очень энергично, как вдохновенный механизатор, бьет в одну точку, сладострастно уничтожая возлюбленную. В конце картины, когда Тесак со товарищи разгромит институт, все разобьет, всех зарежет, включая буфетчицу, станет понятно, что сцена секса была прологом, развернутой метафорой того истребления, которое случилось. Ну, и какая это, прости господи, порнография? — она про то, чтобы снять штаны и подрочить, а не про художественное изъяснение смыслов.
Прошлое или настоящее, выдумка или реальность, обдуманное или импровизированное, законченное или открытое, порнография или метафора — в проекте «Дау» все эти понятия взаимозаменяемы и пограничны. А значит, сами границы подвижны и нуждаются в постоянном пересмотре.
Но коли зашла речь о «Финале» скажу еще вот о чем.

В финале «Финала» как раз одна выдумка и ничего кроме. Партия решила уничтожить институт и всех его обитателей, поручив это главному местному кагэбешнику, который передоверил дело Тесаку, а уж тот его осуществил вместе с командой. Это все, разумеется, сценарий, кино, иллюзион, и импровизацией тут, слава небесам, не пахнет, обошлось без подлинности. Но сам Тесак абсолютно реальный, это известный бандит, как раз совсем недавно, в декабре 2018 года, осужденный на 10 лет. Как и другие, он играет себя — карикатурного националиста, что проявляется в «Финале» не раз, и вполне настырно. Выходит, что национализм всему голова, что именно он загубил мир Дау, а это исторически не очень: в 1968 году национализма в СССР и в помине не было, это страхи и мании 2010 года, когда создавался проект. Но еще хуже, что это совсем не очень по метафоре, от чего пострадала концовка, когда по пустому институту, в котором не осталось ни людей, ни вещей, все разгромлено, бродят забытые свиньи — образ наступившего варварства. А оно осталось без варваров, это устроивших. Непонятно чего ради, они получили идеологический статус: зло сузилось и стало неоправданно конкретным. Оно многообразнее и не имеет выраженного источника — это была ваша мысль после просмотра. Я ее запомнил, а вы?

Т.Т.: Конечно. И сейчас скажу об этом, но сначала скажу вообще про концовку и зайду издалека, терпите.
Сколько бы ни говорил режиссер о том, что рамки его не интересуют, не волнуют, не колышут и так далее, и что он мыслит совсем поперек всяческих рамок (а мы, как вы помните, приставали к нему с этим вопросом, и он открещивался от рамок как-то подозрительно резко), так вот, сколько ты рамок не отрицай, но всех нас, все дела наши, все тексты и фильмы наши, все жизни наши когда-нибудь накроет одной большой рамкой: придет конец.
DAU. Эксцесс, истерия, разрушение
Конец — это неотменяемая часть рамки. Начало может теряться в тумане, но конец однозначен и непреложен. Он наступит. Можно спорить о том, что было раньше, курица или яйцо, и уйти куда-то в хвощи и философию, но про конец все гораздо нагляднее. Вот вам омлет, и вот вам куриный бульончик.
Проект Дау надо же как-то заканчивать. Надо завязывать узел или, наоборот, разрубить завязанный узел, хотя бы и тесаком, или Тесаком. Тесак (Марцинкевич) — бандит, ребята его — убийцы, Тесак объявил себя националистом и желает истреблять людей (на крайняк — культурку), но причем тут национализм, вещь, в зависимости от носителя, либо очень грубая, либо очень тонкая? В тонкой части национализма — любовь к родной культуре, родному мелосу, к сладостным звукам родной речи, к поэзии, к пейзажу, кухне, запахам, этим травам, этим цветам. Ромашки, ромашки, а не кокосы эти ваши проклятые! … В грубой части — измерение черепов, ненависть к брюнетам или, реже, блондинам, выкорчевывание чужих наречий и все такое.
В конечном счете, это либо любовь, либо ненависть, но сам по себе национализм не равен злу; вот в 1917 году зло пришло в Россию в форме самого что ни на есть интернационализма, а могло прийти в какой-то другой форме. В некоторых странах оно является в облике религиозных войн. Интернационализм ленинского разлива так же ненавидел культуру, как и Тесак со товарищи, и довольно успешно ее изничтожил. Да и Тесак — не националист (мало ли как он себя называет), он вандал, неоварвар и психопат. На националиста ему еще учиться и учиться.
Нет, зло не сводится к «национализму», — это пугалка для интеллигентов, это поствоенная травма. Что есть зло, где его корни, его суть, его сердцевина, — большой вопрос, и многие традиционно предпочитают делегировать эти вопросы теологии. Постулируется дьявол. Мы с вами тоже ведь тут поминали ад, дьявола и приспешников его. Кагэбешники в жизни и в проекте «Дау» — отчетливое и огромное зло, но разве они националисты? — нет, конечно.
За два дня до просмотра фильмов «Дау» я была в Амстердаме, — не поверите, — на конференции, посвященной вопросам борьбы Добра со Злом. Конференция была международная и межконфессиональная, одним из участников круглого стола был крупный чин из ЦРУ, — можно сказать, тамошний Ажиппо, сладкий, добрый и «открытый», — совершеннейший кот из «Сказки о глупом мышонке»; зло любит такую конфетную обертку. Была дама, от которой люди немножко шарахались: ее бизнес (она-то называла его философией и «трансгуманизмом») заключался в замораживании людей на десятки лет, пока наука не изобретет лекарства от смертельных болезней. Участникам конференции было, в частности, интересно: а что если хозяйка обанкротится, что станет с замороженными? — ответа мы не получили, дама устроила истерику, и мы поняли, что тут неадекват; но в морозилке у нее, в Аризоне, и правда народ лежит. По 40 000 долларов штучка.
Каждый из участников круглого стола был на стороне Добра, понимаете? Я ждала, когда же подерутся? Дождалась: одна немецкая участница рассказала, что сейчас нам (европейцам, в смысле) необходим новый Крестовый поход, т.к. христианству грозит опасность: по-на-е-ха-ли. Рядом со мной сидел сириец; он закричал: я понаехал?! это я понаехал?! Он чуть не плакал. Он чудом спасся от химической атаки, выполз из кучи трупов. Там людей травили зарином. Там дети, сожженные заживо. А дама эта кивала головой: да, вы понаехали. Мы в опасности.
Мне нравится формулировка Григория Померанца:
«Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах — и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему, зло на Земле не имеет конца».
Вот так, сделав круг, я снова возвращаюсь к вопросу о конце. «Зло не имеет конца», но проект должен же иметь конец. И конец этого последнего фильма — там Тесак по заданию Ажиппо (а тому пришел приказ «сверху») всех убивает топором, — как-то не увязывается ни с метафорикой фильмов, ни с внутренней логикой происходящего, ни с какой бы то ни было реальностью. В реальности, вообще говоря, шарашки распустили, и все разошлись по домам. Это же не зло? Напротив, зло разжало свои когти.

В этом последнем фильме задумано показать развал, расшатывание привычных устоев, показать новые, относительно свободные времена. Вечерние встречи ученых перерастают в попойки, пляски на столе, в бессмысленное битье посуды. Приезжает новое поколение: оно танцует твист во дворе, в охраняемом периметре, оно не очень боится Ажиппо и его контору, оно даже дерзит и, видно, не подчиняется правилам игры, предписанным режиссером. Оно выламывается из той рамки, которой якобы нет! Ни Бога не боятся, ни дьявола. И играют плохо. Вся конструкция идет вразнос.
Но не только мир «верхних» разваливается на части: мир «нижних» тоже трещит по швам, «Нижние» тоже пьют и пляшут, и работать не хотят, и жаркое не поджарено, и обед не готов, и заведующая буфетом срывает голос, крича на пьяных поваров. Ребятам надо есть, где еда? А хер его знает, где еда. Разгром буфета, разгром гостиной, где выпивали ученые, — все идет по нарастающей; потом уже «в экспериментальных целях» к ученым подселяют Тесака с ребятами, и они рвут и пачкают все вокруг. В частности, абстрактную картину, висящую на общей стенке: долой, значит, нефигуративное и депрессивное искусство: ну алё, аллюзии, вы нам немножко надоели. (Кстати, ученые как-то спокойно реагируют на эту порчу социалистического имущества, видимо, картина ничья, так ее и не жалко.) Есть зрительское ощущение, что никто не знает, как теперь играть и что играть. Но закончить-то как-то надо!
Мне кажется, нежелание Хржановского принять неизбежность рамки и необходимость этой рамке быть пришли в хаотическое, многовекторное столкновение. Отчего рушится этот мир? Оттого, что пора бы и честь знать: столько лет работать над одним проектом? Оттого, что деньги кончились? Оттого, что появились новые творческие планы? Оттого, что разнообразие иссякло? Оттого, что все пары исчерпаны? Жена-муж, мать-сын, муж-прежняя любовь, любовь втроем, гейская пара, лесбийская пара, ну и еще несколько пар впридачу, ну еще ученые семинары (мы ни слова не понимаем, мы не академик Иоффе, а так, пописать вышли), ну шаманский трип (тоже интересный только тем, кому открылось запредельное, но не зрителям). И серия допросов, моральных пыток и издевательств, и даже небольшого рукоприкладства — сцены с работниками первого отдела. Замечательные и леденящие душу, и вообще всё леденящие.
Все было. Что делать будем? Только убивать и разрушать и остается. И нанимается Тесак: сверху, но не от партии приходит указ все покрошить в щепу. Сверху, от режиссера, от Господа Бога, от Ильи Андреича. — А раздраконьте-ка все к чертовой бабушке. — А раздраконим!
Никакой Тесак не посмеет изгадить картину, побить народ и расколошматить имущество без воли начальства. Творческое начало в Тесаке есть: вот свинью зарезал на персидском ковре в гостиной, так это ж драгоценность, это не вырезали, а оставили в фильме. Никакой Ажиппо не посмеет взять на себя смелость все уничтожить: людей, институт, все, чем он руководит, всех, кого он тиранит. Он всего лишь дьявол, всего лишь подручный.
DAU. Темные начала
Настоящий разрушитель, получается, — не эти низшие сущности, но сам Творец-Вседержитель.
Создал Вселенную — и уничтожил Вселенную.
Создал «Дау» — и уничтожил «Дау».
Захотел Большой Взрыв — вот вам Большой Взрыв.
Вот где главная-то метафора зарыта. Нет, не в варварах дело. Не в том дело, что остались пустые коридоры, по которым бродят и хрюкают свиньи, и земля снова безвидна и пуста.
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных.
Все сущее опять покроют воды,
И Божий лик отобразится в них.

А.Т.: Конечно, это финал, вы закончили текст, идти дальше некуда и незачем, но у меня есть название, и мне нужно его оправдать, обещаю коротко.
Дау ведь тоже бог, и молодой Дау, и старый, после аварии превратившийся в безмолвные мощи — сидя в коляске, он не действует, не говорит, а только кивает головой; был про науку и движение вперед, про мир, который он меняет, стал про образ, навсегда неизменный, над которым сам не властен. Дау больше не принадлежит Дау, он не контролирует всенародное достояние — могучий бог сделался беспомощным. Но народ стекается к нему за благословением: и пионеры отдают салют Дау, и Тесаки — бандиты в России традиционно богобоязненны, что не помешает им зарезать Дау, богобоязненность бывает кровавой.
Я бог — я червь, а не как у Державина.
Молодой Дау — Теодор Курентзис, который, несомненно, является выдающимся дирижером, но к тому же все время играет выдающегося дирижера. Чтобы продемонстрировать себя, он не снимает, а надевает маску — свою собственную. Ученого Ландау представляет в фильме человек, ставший воплощением современной сценичности. Рождение физики из лирики. И рождение лица из маски. Но это уж точно придумал Хржановский, он же выбрал Курентзиса и позвал его в проект.
Искусство, возникшее в закрытом научном институте, которого там не было и не могло быть, — не только Курентзис, но и Анатолий Васильев, и Черняков, и Кастелуччи, и Селларс, и Дубосарский, и Марина Абрамович, играющие исторических персонажей или самих себя, неважно, в любом случае это дуновение вдохновения, впущенное в шарашку, победа вымысла над реальностью, вольности над распорядком, настоящего над прошлым — редкий случай, как его не отметить? Победа творчества над ограниченностью несвободы, над рамкой в каком-то смысле. А там, где творчество, там всегда Творец.
Я червь — я бог, как у Державина.
Ура, товарищи!