Что нам этот «Фауст»?
Попытка преодоления скуки и раздражения
СЕАНС — 47/48
Перечитывать «Фауста» во взрослом возрасте русскому человеку скучно.
Под русским я подразумеваю человека, преимущественно живущего в круге литературы, написанной на русском — а не на немецком — языке; читателя, для которого словесная ткань «Фауста», гётевский стих, интонации, колкости и словечки не представляют ровно никакой значимости. Человека, который в тексте Гёте слышит в лучшем случае отзвуки пастернаковской лирики, а в худшем — не слышит и их. Человека, в восприятии которого пафос второй части «Фауста» («Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, // Жизнь и свободу заслужил») отдает оформлением актовых залов и почти безотчетно исчерпывается фразой «Человек — это звучит гордо».

Юношеское чтение не в счет: в старших классах школы мы читаем «Фауста» в порядке ознакомления с шедеврами мировой словесности. Недоумение, которое вызывает это «собранье пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных» (и далее по тексту), скрывает от наших неопытных глаз сам предмет: надо запомнить то, усвоить это — в общем, провести трудоемкую исследовательскую, образовательную работу. В зрелом возрасте все извивы сюжета, наконец, понятны: ты знаешь, что монолог про перевод Евангелия от Иоанна переписан у Гердера, а сцену вызывания духов естественным образом читаешь как переложение Сведенборга. Самым любимым местом высокопарной драмы становится Вальпургиева ночь, потому что, читая ее, можно развлечься угадыванием исторических адресатов собранных там эпиграмм. Но все эти знания скорее подстегивают неудовлетворенность, чем избавляют от нее. Потому что демонстрировать литературно-историческую эрудицию гораздо приятнее в связи с нашим собственным «собраньем пестрых глав»: там, кроме мысли и остроумия, есть еще поэтическое, языковое «мясо». Там основа удовольствия — в самом повторении пушкинского стиха, в переживании его ладности, в ощущении себя его частью и наоборот. На этом фоне «Фауст» — всего лишь сухая игра идей с устойчивым привкусом пастернаковской интонации, настойчиво напоминающей о первой профессии нашего переводчика: Пастернак по образованию был философом. А «за идеями», кажется, разумнее обращаться к самой философии, чем к ее двойному переложению в поэтико-драматической форме.
В общем, во взрослом возрасте читать это скучно.

От литературы ждешь весомого содержания, другими средствами невыразимого, а от «Фауста» получаешь лишь набор «зрелых» идей — «зрелых» в том смысле, в каком бакалавр в начале второй части говорит: «Чуть человеку стукнет тридцать лет, он, как мертвец, уже созрел для гроба». Для преодоления скуки «Фауста» в русской словесности есть два инструмента. Во-первых, Пушкин. Во-вторых, Бродский.
Пушкинские «Сцены из Фауста», написанные в михайловской ссылке, нескучны уже тем, что на нескольких страницах исчерпывают саму тему скуки («Мне скучно, бес» => «Все утопить»), не без изящества резюмируя первую часть «Фауста». Освобождающий эффект этого текста во многом объясняется тем, что после него первую часть можно, по-хорошему, уже и не читать. На четырех страницах Пушкин дает нам понять, что скука есть, как скажут сто лет спустя, la condition humaine, и от нее человека не освободит никакая мощь: ни сила знания, ни твердыня веры, ни вихрь любви. На этих же четырех страницах вскрывается деструктивная природа любой мощи, после чего следует окончательный и лихой приговор: а так ли уж плохо все это утопить? Не совершишь ли благо, всему желая зла?
Что такого должно было произойти с этим текстом, чтобы фаустовская проблематика стала неубедительной и абстрактной?
Дальнейшего развития эта тема в русской словесности уже не предполагает. Она может лечь в основу какого-нибудь модернистского романа или стать эпиграфом к роману историософско-сатирическому. Но ничего принципиально нового после Пушкина с ней не произойдет.
Второй инструмент для обращения с «Фаустом» — «Два часа в резервуаре» Бродского, тоже написанные в ссылке и связанные с Пушкиным при помощи эпиграфа. На своих четырех страницах Бродский повторяет пушкинскую мысль о неизбывности скуки, снижает как может пафос гетепочитания посредством использования, должно быть, всех знакомых ему немецких слов и высказывает по ходу дела две претензии современного здравомыслия к «Фаусту». В первой части его не устраивает мотивация сделки Фауста с Мефистофелем: «Ди Кунст гехапт потребность в правде чувства. // В конце концов, он мог бояться смерти». То есть, по мысли Бродского, ждать, что дьявол избавит его от скуки, человек попросту неспособен. Страх фундаментальнее. Скука наводит на размышления. Страх способен мотивировать действия. Собственно, поэтому вторая часть, с ее пафосом градостроительства и борьбы со стихией, не удовлетворяет Бродского туманностью мысли: «Есть истинно духовные задачи. // А мистика есть признак неудачи // в попытке с ними справиться. Иначе, // их бин, не стоит это толковать».

Как из страха может родиться созидание? Зачем деятельность, если все равно умрешь? Действительно, понять связь между счастливым браком греческого духа с истинно немецким духом и рожденным от этого союза проектом укрощения стихий в постромантическую эпоху способны разве что специалисты по романтизму. А «мы теперь, матрозен, на мели».
Текст Бродского обслуживает потребность в отрицании значимости фаустовской проблематики и справляется с этой задачей блестяще — присваивая эту проблематику (через использование «тупого» немецкого) и критикуя ее на ее же идейно-поэтической территории. Собственно, со словами «Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт» взрослый русский человек обычно «Фауста» и закрывает. И чаще всего в надежде, что навсегда.
Но что если попытаться отнестись к отказу от фаустовской проблематики серьезно, то есть попытаться понять, почему она неинтересна не только взрослому русскому человеку, а в принципе? Что такого должно было произойти с этим текстом и кругом идей, связанных с ним, чтобы фаустовская проблематика стала в высшей мере неубедительной и абстрактной?
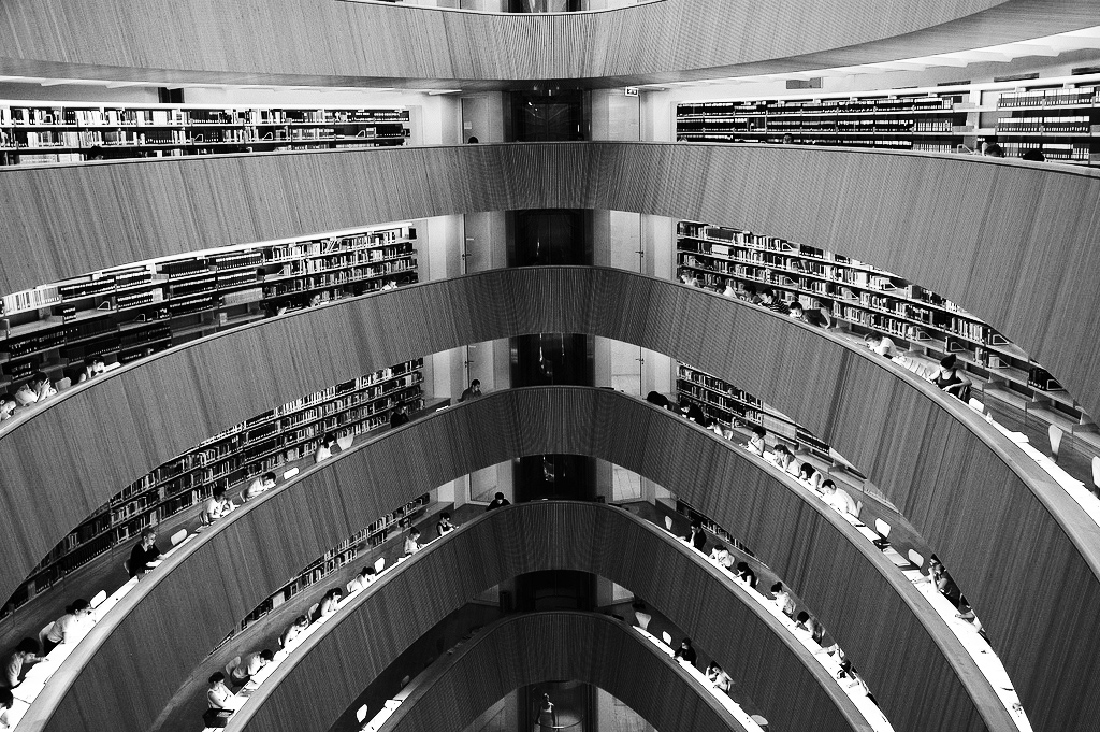
Я попробую сделать это на примерах из литературы, однако вне всякой связи с чисто литературоведческим знанием. Все дальнейшее следует воспринимать как наивный разговор о литературно-идейных реалиях — простительный в свете моего непрофессионализма и оправданный исключительно занимательностью пришедших на ум параллелей. Другими словами: быть может, все, что я скажу дальше, неверно. Но зато и нескучно.
Думаю, я не сильно погрешу против истины, если, заранее отказавшись от тонкостей и подробностей (а право на это я как взрослый русский человек оговорила для себя выше), кратко изложу содержание «Фауста» следующим образом. Трагедия Гёте (довольно, кстати, оптимистическая) рассказывает о поиске человеческого предназначения в мире, где есть добро и зло. Добром работает всемогущий бог, этот мир создавший, злом — тоже едва ли не всемогущий Мефистофель. Бог (по не вполне понятным причинам) получает удовольствие от созерцания копошащегося у его ног творения, а Мефа (тоже из не очень ясных соображений) это копошение злит. Хороший бог все это сотворил, плохой Меф желает все это разрушить. Ну а место действия, понятно, душа человека.

Человеку этому тяжко и скучно. Человек недоволен. Хотя есть варианты. Во-первых, покой ему может гарантировать единение со скотиной:
Возделай поле или сад,
Возьмись копать или мотыжить.
Замкни работы в тесный круг.
Найди в них удовлетворенье.
Всю жизнь кормись плодами рук,
Скотине следуя в смиренье.
Вставай с коровами чуть свет,
Потей и не стыдись навоза —
Тебя на восемьдесят лет
Омолодит метаморфоза.
А во-вторых — единение с богом (на манер благочестивой жизни Гретхен до совращения). Человека эти варианты «жизни без размаха» не устраивают. Скучно, тяжко. Имеются, опять же, соблазны (как в случае Гретхен). Путей преодоления скуки два: знание и действие. Но проблема в том, что оба они ограничены.
Фауст обращается к природе, которую начинает покорять с пафосом, сильно напоминающим пафос социалистического строительства…
Ограниченность человеческого знания Гёте изображает как «безжизненность» (а Вагнер пытается эту безжизненность преодолеть созданием гомункула). Другими словами: как бы хорошо мы ни разбирались в ботанике, мы неспособны породить дерево (знание и действие разведены), и сколько бы мы ни рассуждали о сути любви, мы не способны ее через это рассуждение ощутить (знание и чувство разведены). Единство знания-делания-чувства представлено в божественной интуиции. А человеку, увы, все три части даны по отдельности. Отсюда — необходимость обратиться за помощью к Мефу.
Попытке обретения знания посвящена первая часть драмы. Фауст, овладевший теологией, философией, юриспруденцией и медициной, понимает, что: а) мир от этого не перешел в его подчинение и б) что сам он «не вкусил, чем жизнь остра». И вывод: «И пес с такой бы жизни взвыл!» Примерно в этом месте и появляется пес, то есть Меф, который с помощью ведьминого зелья дает Фаусту возможность вкусить остроту жизни, отчего тот сразу влюбляется в Маргариту и начинает понимать «природу как друга». Это приключение развивается дальше естественным образом — со всей присущей природным процессам остротой (убийство, рождение, безумие). Но познав остроту жизни, Фауст не получает ни мудрости, ни могущества, ни — главное — удовлетворения.
В конце, правда, вмешивается Бог, обеспечивая хеппи-энд в виде туманной вечной женственности.
Во второй части драмы речь уже идет о деятельности. Сначала она предстает в несколько возрожденческом духе — в виде фокусов, которые Фауст производит на манер Леонардо при дворе монарха — и в этих фокусах Фаусту не обойтись без Мефа, потому что далеко не все он может, знает и умеет. Дальше вступает тема гармонической античности, и Фауст умиротворяет свой дух, сожительствуя с Еленой, идеалом античной красоты. С этим вариантом преодоления скуки проблема только одна: хрупкость, конечность человеческой жизни. Сынишка Елены и Фауста Эвфорион, в котором античное, математически прекрасное начало, выраженное в его фигуре и грации движений, очевидным образом соединяется с германским, динамически прекрасным началом, выраженным в его пристрастии к музыке и воинственном духе, гибнет, когда последнее берет в нем верх. Дальше Фауст подобным историческим кровосмешением не увлекается, а обращается к природе, которую начинает покорять разумной планомерной деятельностью, с пафосом, сильно напоминающим пафос социалистического строительства в отдельно взятой стране.
Впрочем, напоминания о бесплодности таких попыток тоже имеются: ходят слухи, что все это строится не без дьявольской помощи, а под конец все построенное, как и следовало ожидать, рушится. Фауст в буквальном смысле слепнет — не видит, что творит. Копая себе могилу, он радостно рассуждает о свободном и счастливом народе, который в борениях торжествует. То есть человек конечен, с какой стороны к нему ни подойди.
В конце, правда, вмешивается Бог, обеспечивая хеппи-энд в виде туманной вечной женственности.
Получается, что «Фауст» — трагедия о конечности человека, рассказ о попытках обретения человеком дьявольского могущества. С финальной, впрочем, моралью о том, что добро побеждает зло.
XIX веку удается упаковать всю сложносочиненную фаустовскую космологию внутрь героя.
Чтобы привести трагедию к этой душеспасительной морали, Гёте потребовалось пятьдесят девять лет (с 1772 по 1831 год), и даже если мы допустим, что немалое количество людей приходит в итоге к осознанию (во взрослом возрасте) собственной конечности, редкий художник живет настолько долго, чтобы заставить себя об этой — прописной, в общем-то, — истине написать. Возможно, поэтому тема Фауста в дальнейшем мало кого привлекает. Но не только поэтому.
Чтобы взяться после Гёте за фаустовскую тему без гротеска гоголевско-уайльдовских портретов и бальзаковской шагреневой мистики, могущество требовалось рационализировать. В XIX веке рационализированное могущество может означать только две вещи: технически оформленное знание и деньги. В этом смысле подлинным осовремениванием фаустовской темы в век позитивизма и технического прогресса следует признать сочинение Дюма «Граф Монте-Кристо».
Меф в XIX веке, очевидно, уходит на пенсию…
В самом деле, аббат Фариа — ходячее воплощение бэконовского тезиса «знание — сила». Его тюремная деятельность плодотворна, потому что он знает, что делает (только ошибается с направлением подземного хода), и знает, зачем он это делает: все эти годы в деятельном состоянии его поддерживает знание о существовании клада. Соответственно, Эдмон Дантес освобождается из тюрьмы и получает возможность восстановить справедливость исключительно благодаря знанию. Богатство Дантеса не имеет у Дюма моральной окраски: оно не хорошее и не плохое, просто знание о существовании клада расширяет твои возможности. Как распорядиться богатством — вот что имеет моральную окраску. И Дантес распоряжается средствами не по собственному усмотрению, а в соответствии с некоторой божественной справедливостью, с общехристианской моралью, согласно которой наказание должно соответствовать вине, а добрые деяния — вознаграждаться. Источником этой благой морали является бог, источник зла в мире — воля человека.
В «Графе Монте-Кристо» преодолевается, таким образом, ограниченность человеческого знания: для отыскания кладов дьявол больше не требуется; это знание носит либо исторический характер, как в случае аббата Фариа, либо — естественнонаучный (золото может добыть и геолог). Неполнота любого отдельно взятого познавательного предприятия восполняется временем: стоит поместить познание в горизонт истории, превратить его в научный проект, как потребность в божественном наитии отпадает. То, чего не может в данный момент знать отдельный Фауст, будет в какой-то отдаленный, но при этом вполне определенный момент знать наука.
Ограниченность человеческого действия преодолевается посредством техники — у Дюма этого нет, но многочисленные примеры можно найти, например, у Жюля Верна.
Могущества больше нельзя достичь на понятных, разумных и морально нейтральных путях.
Иными словами, XIX веку удается упаковать всю сложносочиненную фаустовскую космологию внутрь героя: в нем, и больше нигде, присутствуют и бог (в виде идеи блага), и дьявол (в виде отклоняющейся от блага свободной воли). В нем присутствуют — в виде идеала — полнота знания и многократно усиленная посредством техники способность к действию. Получается, что из XIX века гётевская трагедия читается как трагедия сознания, причем как трагедия с заведомо сниженным накалом трагизма, поскольку составляющие ее конфликты сглажены, полупримирены и полупреодолены посредством замены божественно-космологического элемента горизонтом бескрайней истории, внутри которой постоянно прирастающее знание успешно преобразуется в действие при помощи техники. Меф в XIX веке, очевидно, уходит на пенсию, а бог уплощается до идеи чистого разума и одновременно психологизируется, распадаясь на множество приватных, необязательных образов бога. Примерно на этом этапе трагедия Гёте приобретает статус величайшего произведения немецкого духа, источника бодрых социалистических цитат и предмета чисто антикварного интереса, то есть нейтрализуется и выводится из проблемного круга современности.
Любопытно, однако, то, что к сегодняшнему дню фаустовские мотивы вновь утрачивают свою нейтральность. Сама трагедия не становится от этого актуальной — скорее, выведенные из эквилибриума XIX века понятия могущества и знания начинают у нас на глазах вступать в конфликты, вопиющим образом противоречащие описанным у Гёте. Гётевский текст начинает раздражать своей неуместностью — и, таким образом, призывать к переписываниям и переиначиваниям себя.

Отмечу лишь два важных видоизменения, относящихся к тематической сфере «Фауста». Первое касается могущества. Как и в XIX веке, оно имеет в наше время преимущественно финансовое выражение. Однако заключенная в богатстве мощь полностью утратила к сегодняшнему дню всякую рациональную составляющую. Могущества больше нельзя достичь на понятных, разумных и морально нейтральных путях. Другими словами, знание и сила разошлись в диаметрально противоположные стороны, и деньги, служившие в классической конструкции мерой богатства, созданного методичным приложением ума, превращаются в дьявольский знак, указывают на непосредственную связь их обладателя с миром зла. Богатство больше не бывает морально нейтральным — оно может быть только результатом сделки с дьяволом (в модернизированном, конечно, виде).
Для обретения могущества нам снова нужен дьявол, и гётевская версия встречи с ним раздражает сегодня своей тотальной непрактичностью.
Самую простую иллюстрацию этого превращения дает нам update «Графа Монте-Кристо», написанный в 2000 году Стивеном Фраем. В «Теннисных мячиках небес» фабула романа Дюма воспроизведена полностью и все присутствующие у Дюма мотивы (политика, любовь, зависть и т. п.) остаются на месте, кроме двух: знания и могущества. Источником знания является для главного героя Бейб (осовремененный аббат Фариа), однако учит он вещам в высшей степени бесполезным, а именно игре в шахматы и нескольким иностранным языкам (особый вес среди которых имеет почему-то шведский). Сюжетная функция у Бейба та же, что и у аббата Фариа: сообщив своему подопечному, где искать богатство, он умирает и тем самым подсказывает ему способ побега из психушки (современного замка Иф). По сути же функция у Бейба (как и у знания, которое он герою передает) совсем другая: Бейб возвращает герою его идентичность при помощи рационального объяснения произошедшего. Главный герой под воздействием ухищрений современной психиатрии совершенно сошел с ума, а игра в шахматы и овладение языками нужны лишь для того, чтобы он не утратил волю оставаться самим собой в условиях дурдома. Знание, таким образом, превраается у Фрая в технику сохранения себя и приобретает сугубо личный, не связанный с предметным миром характер. Что же до могущества, хранящегося в швейцарском банке, то Бейб его просто украл.
Итак, современность восстанавливает имевшуюся у Гёте связь могущества и зла. Соответственно, масштабные проекты, реализуемые посредством дьявольской мощи, могут быть только злыми — это проекты мести. В современном варианте «Графа Монте-Кристо» главный герой не воспринимает себя как орудие справедливости — он просто мстит за свою погубленную жизнь, причем мстит искусно, с особой изощренностью: источником удовлетворения становится для него не торжество блага, а превращение смерти плохого персонажа в своего рода произведение искусства, обнаруживающее внутреннее правило, руководившее всей его — дурной по определению — жизнью. В мести современный Монте-Кристо действует как кантовский художник: получает от ее реализации «незаинтересованное удовольствие», ее содержание есть игра воображения и рассудка, а условием возможности творческой мести является изначальное зло, заключенное в больших деньгах.
Проблема современного знания состоит вовсе не в его недостаточности и конечности, а в его самодостаточности и замкнутости на себя.
Итак, для обретения могущества нам снова нужен дьявол, и гётевская версия встречи с ним раздражает сегодня своей тотальной непрактичностью. Вызвать дьявола в современной ситуации невозможно, послать его нам никто не способен — за отсутствием доброй силы, любовь которой к своему творению настолько безгранична, что позволяет ей заключать пари о твердости нашей воли. Обнаружив у Гёте вызывающую неподдельный интерес проблематику, мы с раздражением отвергаем ее трактовку как не имеющую ни малейшего отношения к реальности. На каких путях становятся начальниками наркокартелей? Какое заклинание может открыть простому человеку доступ к нефтяной трубе? Для жаждущих могущества Гёте, должно быть, даже не скучен, а вопиюще неправ. Но интересно еще и то, что могущества в современном мире жаждут совсем немногие.
Усилия большинства устремлены к счастью. И именно в этой связи вступает в игру знание в его новом, оторванном от мира виде — знание как набор техник, применяемых исключительно к самому себе. В своей версии «Графа Монте-Кристо» Фрай не утруждает себя описанием жизни главного героя после реализации проекта мести — мы узнаем только то, что протагонист приобретает психиатрическую лечебницу, из которой бежал, и возвращается туда, чтобы жить дальше. Чем он будет там заниматься? Разыгрывать в воображении шахматные партии и вновь читать некогда прочитанные книги? В любом случае его ум будет сосредоточен на воспроизведении сформировавшей его «я» травмы, и этот опыт, не предполагающий какой-либо завершенности или какого-либо результата, станет для него единственным основанием для продолжения жизни.

Знание себя требует бесконечного возвращения к одному и тому же, оно столь же непереводимо, как смысл, заключенный в евангельском логосе. И сцена, в которой Фауст пытается совершить рациональный выбор из множества толкований, раздражает мастера современного знания ничуть не меньше, чем легкость его контакта со злом раздражает тех, кого в принципе интересует могущество. Тем, кто практикует знание в его современном виде, совершенно ясно, что перевести «логос» невозможно. Кроме того, в этом нет необходимости: это слово следует оставить в его оригинальном звучании, которое — символически отсылая сразу ко всем возможным интерпретациям — даст нам основание никогда не прекращать толкование, бесконечно переживать невыразимый смысл и удостоверяться в собственном существовании в процессе его постоянного уточнения и модификации. Иными словами, проблема современного знания состоит вовсе не в его недостаточности и конечности, а в его самодостаточности и замкнутости на себя. И для того чтобы прочувствовать эти новые коллизии мощи и знания, гётевского «Фауста», очевидно, требуется переписать.
Читайте также
-
Просто Бонхёффер
-
Что-то не так с мамой — «Умри, моя любовь» Линн Рэмси
-
Сыграй еще раз, Вуди
-
Сквозь тела, теории и связный нарратив. Рождение киночувственности — «Опыт киноглаза» Дарины Поликарповой
-
Хроники русской неоднозначности — «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского
-
Достоевский в моем дворе — Сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе







