Москва, я люблю тебя
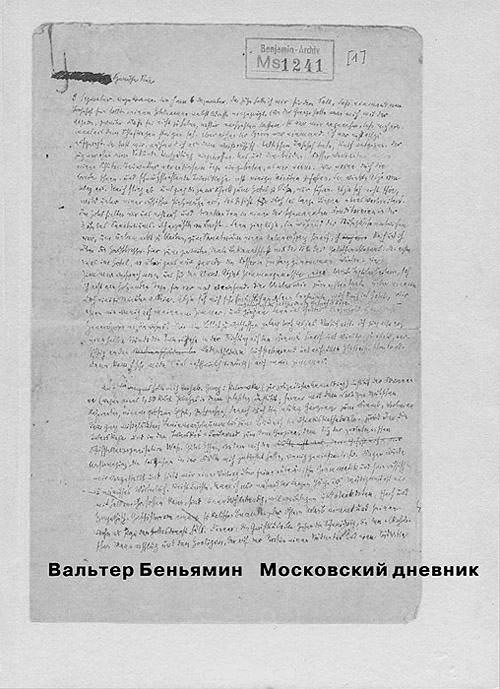
Московский дневник Вальтер Беньямин. Ad Marginem Press, Москва, 2013
Что такое Москва конца
Это и правда дневник. Который, подобно мемуарам Эйзенштейна, будоражит: думали, умник. А он тоже живой, теплокровный. Не какой-нибудь очкастый фриц с легким сердцем. Удивляет еще: когда успевал писать? Когда успевал читать? Если «в своей комнате, Пруста, поглощая при этом марципан». Когда успевал? Если приехал даже не как разведчик, журналист, недокоммунист (а вот они, в приложении, три статьи из московской жизни, вынь да полож), а приехал всего-то как влюбленный. Низкий жанр, двадцать четвертое сословие. И все его исподнее натянуто на струнках телеграфных проводов от Берлина до Москвы. Что за томные времена, нельзя не влюбиться. Как будто входишь с мороза в дом, и сразу влюбляешься. Да непременно напролом, напрямик, вляпывась в какой-нибудь чертов любовный треугольник. И Беньямин пишет «Московский дневник», а кажется, что «Письма не о любви». И зовут его подругу — Эльза? Лиличка? Ася? Будто все женские лица сливаются воедино в этой девчонке с озорными глазами, способной прорубать улицы. Так Беньямин пишет в посвящении к своей «Einbahnstrasse»: «Эта улица называется улицей Аси Лацис по имени инженера, пробившего ее в авторе». О, эти мужчины! Все-то они могут. Шкловский, тот даже не побоялся пересечь залив пешком, а своей Эльзы удержать не сумел.
В Москве улицы приходится пробивать самому Беньямину. Московская топонимика для него темна и непроходима как густой лес, храм Христа Спасителя оборачивается Исаакиевским собором, а Благовещенский — храмом Василия блаженного. «На какую-нибудь площадь нужно вступить со всех четырех сторон света, чтобы она стала твоей, да и покинуть ее во все стороны тоже. Иначе она три, четыре раза перебежит вам дорогу, когда вы совсем не ожидаете встречи с ней». Ничего здесь нет надежного, прочного. Все стихии спутаны. И даже простой поход в музей, встреча с детской коляской сулит приступ, морскую болезнь на твердой почве. Да и сам Кремль тоже стихия, только какая-то иная, дотоле неизвестная, пятая. «Кремль когда-то был лесом — старейшая из его часовен называется церковью Спаса на Бору. Со временем он стал лесом церквей, и как последние цари ни корчевали его, чтобы расчистить место для новых малозначимых построек, их осталось все еще достаточно, чтобы образовать лабиринт церквей». Пожалуй, наиболее точное описание Кремля. Да и не всей ли Москвы той поры. Москвы, где невозможно остаться и трудно уезжать: «Она еще долго стояла и махала. Я махал ей в ответ. Сначала мне показалось, что она повернулась и пошла, потом я потерял ее из виду. С большим чемоданом на коленях я плача ехал по сумеречным улицам к вокзалу»

Вальтер Беньямин
Весь дневник как летопись усталости и болезней трех людей. После нервного истощения поправляется Ася, чем-то вечно болен Райх (ее будущий муж). Этим подавленным состоянием быстро заражается и Беньямин, на следующий день после приезда записывая у себя в дневнике: «Я вернулся невероятно усталый (и, вероятно, печальный) в свой номер». Даже бедная Дага, дочь Аси, отправлена в санаторий. В один из приездов мать находит ее заплаканной, в рваных колготках: «Выяснилось, что посылка с чулками не дошла и что за последние две недели ею вообще почти никто не занимался. Ася была так взволнована, что не могла произнести ни слова…». Как не к месту здесь этот иностранец, читающий ей что-то про морщины («И никто из посторонних не угадает, что как раз здесь, в несовершенном, в достойном порицания, замер стремительный порыв страсти обожателя»), а потом помогает ей надеть галоши. Последняя радость влюбленного!
И враждебная обстановка кругом мало помогает ему оправиться. Одинокий, замерзший, потерянный, он мечется между комнатой Райха и санаторием Аси, проезжает свои остановки (не видно домов из-за морозных узоров на стекле): «Хотел было поужинать, но проехал остановку. Возвращаться было слишком долго, пришлось обойтись без ужина». Даже покупка лампочки превращается для него в целое приключение: «Оставалось только, вооружившись соответствующим словом, отправиться на поиски самому. Но даже это слово нужно было сначала узнать у Аси. В этой ситуации настоящим счастьем было то, что я здесь неожиданно обнаружил свечи, на которые мог просто показать».
Радостный Беньямин приносит Асе билеты на балет, а она, оказывается, гораздо больше хотела на «Ревизора». Затем он принимает приглашение на ужин от ее подруги, услышав, что Ася тоже будет там. Не успевает вскочить на подножку трамвая, теряет спутницу, едет какую-то часть пути в одиночестве и, наконец, главное впечатление вечера: «Запомнил только, что, когда я выходил вслед за Рахлиной, Ася послала мне воздушный поцелуй». Все подсвечено любовью к ней: «Я понимаю, что Асе не хватало в Берлине снега и ее ранил голый асфальт». Не вспомнить Беньямина летнего. У него и детство начинается с описания берлинской зимы. Словно другого времени года не бывает вовсе, он просто переезжает из одной зимы в другую.
Часовщики и старьевщики, продавцы яблок и бумажных цветов, русские книги без переплетов (экономят на оформлении) — ушедшая натура взглядом иностранца. «Чрезвычайно показательно, что, как рассказал мне Райх, в каком-то клубе висит транспарант, на котором написано: «Ленин сказал, что время — деньги. Чтобы высказать эту банальную истину, здесь требуется ссылка на высший авторитет». Беньямин пишет и о кино, но как-то совсем мало, невпопад. «Броненосец Потемкин»? Опоздал, видел последнюю часть. «По закону»? Нагромождение ужасов и абсурда. В отдельной статье он подытожил свои впечатления так: русское кино лучше смотреть в Берлине. «Вечером с Райхом — на плохом фильме (с Ильинским), неподалеку от моей гостиницы», — вот наиболее типичная реакция Беньямина на просмотренное. Видно, что не кино влекло его в Москву, и не кино оказалось здесь главное. Как и история о походе в театр становится лишь предлогом для любовного разочарования.
Беньямин делит одну комнату с Райхом, познавая все тонкости коммунального быта: как всю ночь в коридоре звонит телефон, как тянет жаром от пола, и как с утра начинают колоть дрова, «будто кто-то отбивает гигантские бифштексы». Увидев все это, он признается: «Жизнь в России для меня слишком тяжела, если я буду в партии, а если нет, то почти бесперспективна, но вряд ли легче». И какие русские фильмы, какие комедии с Ильинским (который, согласно Беньямину, не более чем мало элегантный подражатель Чаплина), могут сравниться с движением руки дорогого существа: «Воротник моего пиджака завернулся, и она поправила его. В этот момент я осознал, как давно я не ощущал дружеского прикосновения».
Встречает в Москве новый, 1927 год. Без огней и карнавальных масок. Провожая Асю в санаторий он просит о поцелуе, еще в старом году. И даже в этом ему будет отказано.







