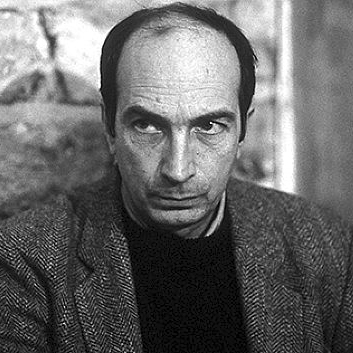Брехтовское кино?
СЕАНС — 49/50
Бросая беглый взгляд в прошлое, приходится констатировать, что Брехт почти всегда находился в конфликте с кинематографом. Прельщенный технической новизной и общедоступностью молодого конкурента театра, Брехт очень скоро в нем разочаровался. Ни одно из важных достижений кино не смогло вызвать у него энтузиазма, восхищения и даже уважения. Кажется, Брехт не любил «Броненосец «Потёмкин»»; он затеял небезызвестный судебный процесс над Пабстом и продюсерами «Трехгрошовой Оперы»; воспринял почти как предательство первые же поправки к сценарию фильма «Палачи тоже умирают». Жан Ренуар утверждал, что Брехту понравилась трехчасовая версия «Мадам Бовари» (Madame Bovary, 1934) — фильма, вскоре сокращенного дистрибьюторами до 1 часа 40 минут, — но здесь мы можем полагаться лишь на свидетельство Ренуара. Единственным деятелем киноискусства, которым Брехт действительно восхищался, был Чарли Чаплин. Да и то, это восхищение было адресовано скорее не Чаплину, а Шарло — мифическому актеру, чья игра бесконечно разнообразна, но всегда узнаваема; все в этой игре — движения, жесты, взгляды, позы, удары — кажется системным, подчиненным общественным рефлексам, но система эта каждый раз деформируется, рассыпается, ничего не накапливая в настоящем.
Вероятно, для Брехта восхищение кино было чувством иррациональным, походившим на религиозное.
Восхищение Брехта направлено на Шарло, а не на того, другого Чаплина, конструктора фильмов, который будет все реже и реже самовыражаться посредством своего главного исполнителя — себя самого, но который после «Золотой лихорадки» (увиденной Брехтом в марте 1926 года) начнет соотносить свою актерскую игру с пространством (в «Цирке» и в боксерских сценах «Огней большого города»); с другими актерами, которые постепенно перестают быть второстепенными; с хронометражом; с усложнением повествования и введением раскадровки (в которую можно включить и монтаж); со всем тем, что участвует в создании камерой смысла (с какого расстояния нам показана та или иная сцена и тот или иной персонаж, что включено в кадр и что остается за кадром, от чего зависит решение использовать тревеллинг и в каком направлении по отношению к тому или иному персонажу или декорации он будет использован, на какой скорости нужно удаляться от них или приближаться к ним, и как опровергнуть движением взгляда камеры — в том числе и на статичном плане — движение персонажей); а вскоре и со звуком (с добавлением диалогов и закадрового голоса к немым фильмам, с придуманными языками, музыкой, стилизованными шумами…) и, наконец, с тем, как выражается в единице смыслопостроения (prise de sens), выходящей далеко за пределы кинокадра (prise de vues), все то, что воспринимается ухом зрителя одновременно с тем, что регистрируется глазом.

Вероятно, для Брехта восхищение кино было чувством иррациональным, походившим на религиозное. Всякая идея, которую он берет на заметку, ложится в основу действия, которое, в свою очередь, порождает новую идею: так, например, пытаясь оживить роман Стивенсона, он сводит его к тем нескольким драматическим находкам, которые смог там найти. И не важно, что в 1925 году он принимает шотландского писателя за американца: он вполне доволен, что обнаружил эти открытия у своего литературного собрата и, быть может, найдет им достойное применение. Резко отторгая одно и весьма избирательно заимствуя другое, Брехт, с первых текстов о кино 20-х до нелестного портрета Голливуда 40-х, принимал вызов кино, пробуя подчинить функционирование этого странного и лишенного тайны искусства требованиям, в значительной степени сформированным его театральной практикой; он попытался превратить кино в средство существования — однако сегодня невозможно воссоздать брехтовский маршрут иначе как пунктирную линию, на которой раздражение соседствует с эстетическим волюнтаризмом и резким сарказмом.
Бог ты мой, актер совершает самоубийство, как если бы он показывал, как нужно чистить огурцы!
Заявив о себе как об истинном кинематографисте в «Куле Вампе» (было бы неверно приписывать успех фильма заслугам режиссера Дудова, для остальных фильмов которого характерна скудость выразительных средств, превосходящая даже пабстовскую), Брехт дополняет это произведение письменными размышлениями, главный интерес которых заключается в отмеченной им взаимосвязи между экспрессивной дерзостью фильма (в сцене, позаимствованной из газетной рубрики чрезвычайных происшествий, безработный снимает часы, прежде чем залезть на карниз для самоубийства), где форма и содержание (слово, часто употребляемое Брехтом) неразделимы — этикой драматургии эта сцена, кстати, предвосхищает кино Брессона и особенно Штрауба: актерскую игру можно описать как движение наощупь, — и резкой реакцией, которую этот фильм вызвал у определенных представителей культурной и политической власти.
Цензор настаивал на том, что ход событий, приведший к самоубийству, обладает у нас эксплицитно демонстративным характером. Он употребил выражение «нечто машинальное». Дудов встал и гневно потребовал, чтобы была проведена медицинская экспертиза. Она бы подтвердила, что действия подобного рода часто создают впечатление машинальных. Цензор покачал головой: «Возможно, — упрямо сказал он. — Но вы, тем не менее, должны признать, что в вашем самоубийстве нет ничего импульсивного. У зрителя не возникает желания ему воспрепятствовать, что было бы естественным для художественного произведения, наполненного теплотой и человечностью. Бог ты мой, актер совершает самоубийство, как если бы он показывал, как нужно чистить огурцы!» Мы не смогли убедить его принять наш фильм, и, покидая зал, не скрывали восхищения перед этим проницательным цензором. Он проник в сущность наших художественных помыслов гораздо глубже, чем самые доброжелательные критики. Он преподнес небольшой урок реализма. С точки зрения полиции. — Б. Брехт. «О кино»
Такую реакцию в Германии 1931 года вызывала лишь одна сцена из фильма Брехта. А вот что он замечает по поводу кино в 1942 году в своем «Рабочем дневнике»:
«В силу механического воспроизведения, кинофильм представляется конечным результатом, вынужденным и неизменным, что возвращает нас к главной претензии: публике не предоставляется никакой возможности повлиять на игру актёров, зритель видит не процесс производства, а продукт — результат того, что произошло в его отсутствие»
И хотя это замечание было сформулировано в период великого голливудского разочарования Брехта, оно не содержит ретроактивной критики успеха «Куле Вампе», где игра актеров — не самое первое, что регистрируется в памяти, и где от зрителя не ожидается никаких модификаций. Речь идет о знаменитом эффекте очуждения, цель которого определяется Брехтом как «вычленение из изображаемых процессов их фундаментального социального жеста, чтобы представить его в очужденном виде». Под социальным жестом Брехт понимал «выражение в мимике и жесте социальных отношений, которые существуют между людьми конкретной эпохи». Подразумевается, что зрители, находящиеся в театральном зале, видят и слышат актеров играющих на сцене; и модификации, которые привносятся в игру этих актеров в ходе спектакля, ни в коей мере не связаны с тем, что можно назвать минимальной пространственной дистанцией, относительно которой строится и организуется вся актерская игра. Эти модификации касаются точности соотнесения обширного и одновременно детального социального знания с его переложением в сложнейшую жестикуляционную и фоническую систему, при этом зритель никогда не меняет своего местоположения (за исключением тех случаев, когда он покидает зал); понятия угла зрения, фрагментации и целостного восприятия тел, вкупе с фрагментацией времени, являются тем, на чем основывается восприятие (в широком смысле этого слова) кинозрителя в той же мере, в какой минимальная пространственная дистанция — непрерывная и, в принципе, неизменная — лежит в основе восприятия в театре. Не понимая до конца этой разницы, Брехт спустится с небес на землю, доверив Фрицу Лангу постановку «Палачей…»; он не отдает себе отчета в том, что экранизация предполагает преобразование материала в соответствии не с голливудской идеологией, а с фундаментальными законами кино, которые Ланг давно уже ассимилировал, а Брехт после работы над «Куле Вампе», кажется, забыл. Сам того не замечая, Брехт точно указывает на фундаментальные различия театра и кино, удивляясь в своём «Рабочем Дневнике» (запись от 29 июня 1942 года), что публика верит, когда «глава сопротивления прячется за шторой во время обыска гестапо». Подобная сцена действительно подразумевает фрагментацию пространства и времени, которая совершенно неосуществима на сцене (без того, чтобы не впасть в анекдотичность или эксцентричность). Глава Сопротивления должен остаться невидимым, а гестапо — найти опасного сопротивленца; сама структура, навязанная этими задачами, соединяет время (его течение, на которое напрямую воздействуют разнонаправленные энергии) и архитектуру пространства (реальность мест, переданную на экране с различных ракурсов, что позволяет зрителю почувствовать, среди всего прочего, дистанции). Эта сцена целиком постулирует кино как таковое. Брехт, похоже, презирает всё, что эта драматическая идея содержит в перспективе… театра: та же самая идея в фильме утверждает фундаментальное свойство кино (диалектическую выраженность действий их длительностью и пространством, в котором они производятся).

В другой записи своего «Рабочего дневника» Брехт отмечает, что в Голливуде театральные актеры немецкого происхождения — изгнанники, как и он, — удивляют режиссеров, начиная во время игры закатывать глаза. Когда в «Иване Грозном» Эйзенштейн использует театральную манеру игры Черкасова, он подкрепляет ее такой же эскалацией в пластической композиции планов, поддерживает световые эффекты тенями, утрирует перспективы, наращивает количество музыкальных вставок — строит весь свой фильм на чрезмерной экспрессивности. В условиях экспрессивной экономии, подобной голливудской, театральная игра не может выражаться иначе как через драматургию, которая регулируется строгими, выдержавшими проверку временем законами и квазинаучными открытиями в области кино1. Все то, что театральный актер выражает на сцене, — драматическое напряжение и т. п. — кино вбирает в себя, конвертируя в воссоздание декораций и костюмов (бывают исключения, обусловленные требованиями жанра), а также времени и пространства посредством раскадровки и монтажа (который часто является естественным продолжением раскадровки, утверждаемой сразу же после написания сценария). Раскадровка позволяет фрагментировать тела, приблизить лица, возвыситься над актерами, изолировать ту или иную часть декорации или тела2. Фрагментация, даже если мы говорим о сверхдлинном плане (то, что называют планом-эпизодом), не требует от актера обращения к публике. В отличие от театра, где актер чувствует присутствие перед собой живых людей, со сдержанностью, неприязнью или энтузиазмом реагирующих на то, что он проживает или изображает на сцене3, в кино безучастный глаз камеры (лишенный как благосклонности, так и недоброжелательства) объективно запечатлевает как моменты бездействия («мертвое» время), так и моменты сильного драматического напряжения; то, что в актерской игре кажется незначительным (спад напряжения, моменты чистого физического присутствия), как и то, что создается в актерском порыве или заранее рассчитано, камера фиксирует с одинаковой точностью. Происходит это потому, что актер в кино — не единственный участник сложного драматического сооружения: раскадровка распределяет действие в последовательности согласно создаваемой топографии, в отличие от линейного пространства и времени театральной сцены; в задачу раскадровки входит материальное продление разнородности, которая способствует развитию отношений, заложенных в основном сюжете. Киноактеру необходимо не только запомнить свои передвижения и ритм игры, но и игнорировать камеру (исключение составляет Шарло, часто глядящий по ту сторону камеры и иногда на зрителя). Исходя из соображений нравственности, актеру следовало бы повернуться спиной к камере — что, кстати, и сделали актеры в «Куле Вампе». Композиционная разнородность фильма была как нельзя лучше подчеркнута разделением его на три части: «Одним безработным меньше», «Прекрасная жизнь молодого человека» и «Кому принадлежит мир». В 1942 году конфликт Брехта, своевольно стремящегося навязать киноматерии слепой закон содержания («что и следовало доказать») и сформулированной на основе тщательно разработанных театральных приемов системы понятий, и Ланга, медленно и упорно, от фильма к фильму, начиная с 1918 года разрабатывавшего уникальный эстетический подход, приводит к появлению блистательного произведения, которое подчиняется двум несовместимым эстетическим принципам. Брехт воспринял «Палачи тоже умирают» как компромисс с идеологией Голливуда. А молчание Ланга по поводу этого фильма не мешает нам отметить некоторый регресс4 в сравнении с огромной драматической и логической мощью «Охоты на человека» (1941). Там момент осознания зажиточным английским буржуа чудовищной сути нацизма показан чисто кинематографическими методами; он воспринимается зрителем убедительнее, чем борьба народа в «Палачах…»: брехтовские типажи ломают логический механизм отождествления зрителя с пространственно-временными установками, присущими исключительно кино.
1 Вспомним, что в Голливуде, чтобы проверить производимый фильмом эффект, проводили сеансы-сюрпризы, на которые приглашали людей с улицы: в конце фильма им давали опросники, где нужно было высказать свои впечатления. В зависимости от результатов этих предварительных просмотров киностудии давали указания, какие сцены убрать, что изменить в монтаже, заказывали съемку новых планов и новых сцен. Эта практика существует и поныне.
2 Аллан Дуон в Présence du cinéma N 22–23 рассказывает про Гриффита примерно в 1910 году: «Очень скоро на него посыпались неприятности. Когда он начал обрезать персонажей на уровне коленей или пояса, владельцы кинотеатров и даже публика набросились на него с критикой. Не видя ног актеров, они не могли понять, как те передвигаются. Им было необходимо видеть актеров с головы до пят».
3 Существует замечательный фильм о последнем бродячем народном театре во Франции (Dernier théâtre ou Camélias-souvenirs, 1975. — Примеч. ред.) снятый Жераром Патрисом по заказу INA (Institut national de l’audiovisuel): по запечатленным в нем отрывкам спектаклей — как по игре актеров, так и по реакции публики — можно ощутить то, что воистину поставлено на карту в театре, и понять, насколько большинство спектаклей профессиональных трупп отдалено от всего того, что священно в театре. Брехт, несомненно, попытался воссоздать тип отношений, в которых социальная проблематика, реанимированная на сцене, обрела бы реальную силу взаимодействия между актерами и публикой.
4 Некоторые фильмы Ланга, возможно, менее успешны, чем «Палачи…», но если мы измеряем успех амплитудой трансформации между начальным сценарием и конечным фильмом, то следует признать, что успех «Палачей…», по крайней мере, с эстетической точки зрения есть успех ложный, каким бы блестящим этот фильм ни был.

В полной мере брехтовского кино не существует. Самым брехтовским можно назвать фильм Штрауба «Урок истории» (Geschichtsunterricht, 1972), основанный на отрывках из «Дел Господина Юлия Цезаря». Роман Брехта здесь служит нарративным материалом, который диктует подбор актеров, чеканящих тексты Брехта в декорациях, непосредственно связанных с обсуждаемым действием. Столкновение эпох, являющее перед нами древних римлян и современного молодого человека, перемежается с документальными съемками блужданий по Риму: самые нарочитые свидетельства экономического и самые тонкие знаки социального врываются в поле зрения камеры, установленной в движущемся автомобиле, — таким образом создается ансамбль разнородных блоков, исподволь втягивающий зрителя вглубь повествуемых конфликтов. Нигде не отказываясь от свойственного кинематографу очарования (театр, впрочем, тоже имеет свое очарование), улавливая неуловимые, световые и звуковые, частицы этого очарования, Штрауб подводит зрителя к самому сердцу драматических теорий Брехта.
«Куле Вампе» — единственное произведение Брехта, которое может непосредственно служить моделью и объектом размышлений для кинематографиста.
Фильм этот, конечно, тоже не является абсолютно брехтовским, но своей радикальностью он по крайней мере подтверждает, что большинство фильмов, вдохновлённых Брехтом, сохраняют лишь внешние знаки брехтианства, присваивают себе лишь брехтовскую ауру: заимствуя смыслообразующие и функциональные технические приёмы брехтовского театра, они обращают их в манерные стилистические эффекты (за исключением тех случаев, когда эти приемы — как, например, у Эйзенштейна — работают в контексте, в рамках целой структуры других элементов). Так называемые брехтовские фильмы часто присваивают себе — громогласно, как это принято у их режиссеров, — культурную прибавочную стоимость, которая часто оказывается ничем иным, как марксистским или левым академизмом. Какие-то из этих фильмов — прилежные и скучные, другие представляют собой хитрые и заурядные инструменты захвата зрительского внимания; но все они дают весьма схематичное представление о Брехте. Эти произведения, впрочем, отвечают лишь внешним принципам кино: предполагается, что они способны обогатить этого бедного родственника.
Завершая разговор о влиянии Брехта на кино, хочется сказать несколько слов о комедиях Фрэнка Капры («Мистер Смит едет в Вашингтон», «Пригоршня чудес» и др.), в которых идеологическое содержание (защита демократии от коррупции, выраженная в идеалистических, с не совсем брехтовской моральной окраской, терминах) важнее поступков и поведения персонажей. Идеология и классовое сознание — которые в данном случае выступают, если не в качестве мотора, приводящего в действие персонажей, то хотя бы фары, которая освещает их поступки — придают фильмам Капры по-настоящему брехтовское звучание. Возможно ли, чтобы Брехт, живя в Голливуде, не знал об этих фильмах?
Нам еще предстоит открыть немой фильм среднего метража, снятый Брехтом вместе с Эрихом Энгелем и Карлом Валентином в 1923 году — «Тайны одной парикмахерской»: его, насколько я знаю, еще не показывали во Франции. Но, основываясь на свидетельствах тех, кто его видел, можно предположить, что эта работа не обладает ни размахом, ни теорeтической и документальной значимостью «Куле Вампе». Таким образом, «Куле Вампе» — единственное произведение Брехта, которое может непосредственно служить моделью и объектом размышлений для кинематографиста: Брехт в свое время сформулировал проблему выражения подвергнутого политическому анализу содержания, а также проблему его трактовки актёрами, которые спустились с высоты подмостков. Впрочем, если из фильмов Брехта только «Куле Вампе» может считаться моделью и исходным текстом, то его пьесы остаются обязательными объектами размышления для каждого кинематографиста: брехтовское искусство композиции, повествования, драматургии, искусство проникать в самую суть вымысла — короче говоря, все то, что составляет арсенал драматических приемов, — в театре до сих пор остается практически непревзойденным. Если оглянуться на то, что было сделано в кино (не обращая при этом внимания на политическую окраску того или иного фильма), следует признать, что с этим арсеналом приемов был хорошо знаком даже такой антимарксистский кинорежиссер, как Де Милль (в одном ряду с ним можно по разным причинам упомянуть Любича, Капру, Форда и Чаплина). Де Милль, выросший на театре (Дэвид Беласко), смог конвертировать накопленный в юности опыт в выстраданные кинематографические решения, эффективность которых со временем нашла себе подтверждение5; то же самое можно сказать и про Эйзенштейна, вскормленного различными видами искусства. В случае Брехта, Эйзенштейна и Де Милля заложенная идеология могла устаревать и видоизменяться, вплоть до полной потери своего первоначального облика — но произведений, их динамики это не затрагивает, они в нашем распоряжении6.
5 Как говорили в Голливуде, «никто не любит фильмы Сесила Б. Де Милля, кроме публики».
6 Примирительная аура фильмов Де Милля сегодня более безобидна, чем избыток душевности, который театр Брехта дарит всем, кто сегодня находит в нём утешение, поскольку сила его воздействия на настоящее ослабевает: нужно подождать еще несколько лет, прежде чем историческая обстановка, поддерживавшая эту театральную глыбу, утратит свое влияние, и прежде чем проявится все то исконно театральное, что есть в пьесах Брехта, — согласно тем же механизмам, благодаря которым мы сегодня можем изучать, понимать и ценить кантаты Баха. Вспомним также, что когда однажды за ужином кто-то спросил Брехта, чем он занимается, тот ответил: «Я делаю украшения для бедных».
Всякое подлинное искусство ненавидит калькирование и аннексирование. Брехт для кинематографиста (как и любой другой великий творец, знающий свое искусство) — это рука Провидения, ни больше ни меньше. Как Стравинский, как Шёнберг, как Кафка, как Джойс, как Паунд, как Ланг или Чаплин. Из него можно черпать, рискуя закопать то, что вычерпал, в самую недоступную, сокровенную область своего творчества. Чтобы затем начать все сначала.
Перевод Ларисы Смирновой
Читайте также
-
Gransino Zet Uitgevers Naar Nieuwe Partnerschappen
-
А был ли мальчик? — Портрет Александра Яценко
-
«Такой именно день» Клавдии Коршуновой, премьера фильма
-
Сеанс-дайджест № 210 — Февраль 2026
-
Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым