Города человека и его душа
В Берлине состоялась премьера новой экранизации романа Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац», сделанная Бурханом Курбани. Фильм, утопленный в современность, явно существует в уважительном диалоге с классической экранизацией Фасбиндера. Публикуем его заметки о романе.
Лет двадцать назад, мне было тогда четырнадцать, а может, уже пятнадцать, я, охваченный жесточайшим взрослением, повстречал в своем абсолютно неакадемичном, крайне личном, подчиненном лишь моим собственным ассоциациям странствии по мировой литературе роман Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац».
СЕАНС — 64
Честно говоря, поначалу книга вообще меня не затронула, а тем более не поразила и не потрясла, как порой случалось у меня с некоторыми, признаться, немногими прочитанными «книгами». Напротив, первые страницы — возможно, сотни две — навели на меня такую безнадежную скуку, что я вполне мог бы отложить книгу, не дочитав до конца, и, вполне вероятно, никогда больше ее не открывать. Странное дело! В таком случае я бы не только упустил одно из самых волнующих и увлекательных соприкосновений с произведением искусства, нет, — и думаю, я знаю, что говорю, — но и моя жизнь, конечно не целиком, но в какой-то части, пожалуй более решающей, чем я до сих пор способен осмыслить, пошла бы иначе, нежели она шла с Дёблиновым «Берлинским Александерплацем» в голове, в плоти, в крови и в душе. Можете посмеяться, если угодно.

В самом деле автор, возможно из трусости, возможно из необъяснимой робости перед действующими моральными принципами своего времени и своего класса, возможно из бессознательного страха человека, каким-то образом затронутого лично, — словом, Дёблин на протяжении многих глав, многих-многих страниц, едва ли не слишком долго ходит вокруг да около своей темы, точнее собственно темы романа «Берлин, Александерплац». Встреча «героя», Франца Биберкопфа, с другим «героем» романа, а именно Райнхольдом, — встреча, определяющая дальнейшую жизнь их обоих, происходит в четырестадесятистраничном карманном издании на странице 155, уже во второй трети романа и, как мне казалосьтогда, при первом чтении, с опозданием минимум на 150 страниц, и это впечатление, конечно волей-неволей несколько дифференцированное, у меня и сейчас, по сути, не изменилось.
«Берлин, Александерплац», помогает развить теоретическое, не теоретизируя, толкает к моральным поступкам, не морализируя.
По той или иной причине, безусловно к моему счастью, я одолел первую треть «Берлин, Александерплац», которая — как я уже сказал — скорее навела на меня скуку, чем смутила, сбила с толку, а тем паче взбудоражила, и продолжил чтение, прочел все остальное разом, с ходу, как говорится, проглотил взахлеб. Впрочем, характеристика все равно весьма слабая, ведь угрожающе часто это было даже не чтение, скорее уж жизнь, страдание, отчаяние и страх.
Но, на счастье, роман Дёблина слишком хорош и не допускает, чтобы ты утонул в нем или потерялся. Снова и снова он прямо-таки заставлял меня — и, думаю, заставляет любого читателя — вернуться к себе самому, к своей собственной реальности, к анализу любой реальности любого человека. Кстати, я бы предъявил такое требование к каждому произведению искусства. Может статься, «Берлин, Александерплац» помог мне осознать это требование к искусству, сформулировать его и не в последнюю очередь применить к собственной работе. Итак, я столкнулся с произведением искусства, которое оказалось не просто способно некоторым образом помочь в жизни, хотя и это тоже, об этом я еще расскажу, то есть произведение искусства, «Берлин, Александерплац», помогает развить теоретическое, не теоретизируя, толкает к моральным поступкам, не морализируя, помогает увидеть в обыкновенном подлинное, а значит, священное, не будучи обыкновенным, а тем паче священным, не возводя себя в ранг повествования о подлинном и проч. и не выказывая при этом жестокости, нередко присущей произведениям такой значимости.
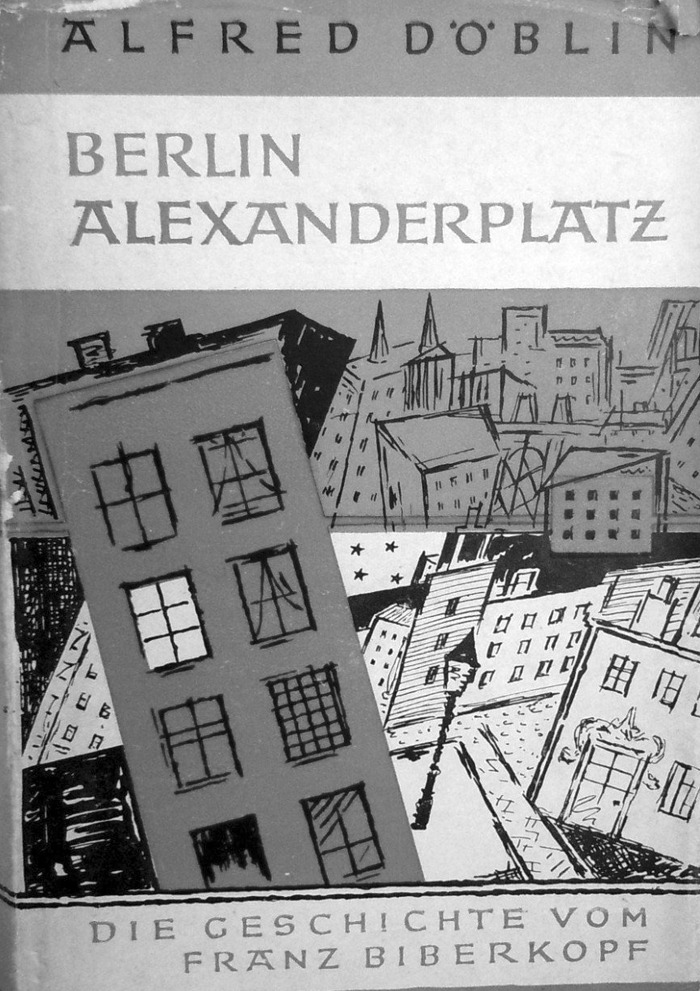

Однако «Берлин, Александерплац» не только помог мне в этическом созревании, нет, для меня, находившегося в пубертатный период под реальной угрозой, он стал настоящей, чистейшей, конкретной помощью в жизни, ведь я тогда читал роман Дёблина — притом конечно же слишком упрощая его и сужая до собственных проблем и вопросов — как историю двух мужчин, чья короткая жизнь на этой земле терпит крах оттого, что у них нет возможности собраться с духом и даже не признаться себе, а хотя бы увидеть, что они странным образом нравятся друг другу, любят друг друга, что нечто таинственное связывает их больше, нежели обычно считается допустимым среди мужчин.
И ведь речь идет отнюдь не о сексе между лицами одного пола. Франц Биберкопф и Райнхольд вовсе не гомосексуалисты — даже в самом широком смысле у них нет проблем в этом плане, ничто вообще на это не указывает. В том числе и однозначно сексуальные отношения Райнхольда с неким юношей в тюрьме, сколь бы счастливыми Дёблин их ни изображал. По моему глубокому убеждению, это вообще не имеет касательства к тому, что было между Францем и Райнхольдом. Между ними возникает ни больше ни меньше как чистая любовь, не замутненная ничем социальным. Суть именно такова. Но, разумеется, оба — Райнхольд еще больше, чем Франц, — существа социальные и потому, естественно, не в состоянии даже просто понять эту любовь, а тем паче принять ее, примириться с нею, стать богаче и счастливее благодаря любви, которая и без того встречается среди людей крайне редко.
Это чтение помогло мне не стать совершенно больным, изолгавшимся, отчаявшимся, помогло не погибнуть.
И в самом деле понятно, чтó должна означать для существа, воспитанного как мы или примерно как мы, любовь, не ведущая ни к каким зримым результатам, ни к чему, что предъявимо и применимо, то бишь полезно. Тех, кто усвоил, что любовь применима, хотя бы полезна, в позитивном, как и в негативном — мы ведь научились наслаждаться и страданием, — такая любовь, вот до чего печально и ужасно с нею обстоит, должна пугать, да-да, просто пугать, и под «теми», конечно, следует понимать нас. Каждого из нас.
Вот примерно так я, наверно, и прочитал впервые «Берлин, Александерплац». А если говорить конкретно, это чтение помогло мне осмыслить мучительные страхи, которые почти парализовали меня, — страх признать свои гомосексуальные влечения, уступить подавленным потребностям; это чтение помогло мне не стать совершенно больным, изолгавшимся, отчаявшимся, помогло не погибнуть.
Лет через пять я перечитал «Берлин, Александерплац». На сей раз меня поразило или подтолкнуло к новым выводам нечто совсем другое, и это тоже помогло мне лучше разобраться в том, чтó есть «Я», уберегло от бессознательного стремления жить, попросту говоря, «жизнью из вторых рук». В общем, при втором чтении я с каждой страницей все более отчетливо понимал, сперва с удивлением, потом с растущим страхом, а в конце концов с такой озадаченностью, что был едва ли не готов закрыть глаза и заткнуть уши, вытеснить все это, — понимал, что огромная часть моего «Я», моего поведения, моих реакций, то бишь многое, что я считал собой, было не чем иным, как описанным Дёблином в «Берлин, Александерплац».
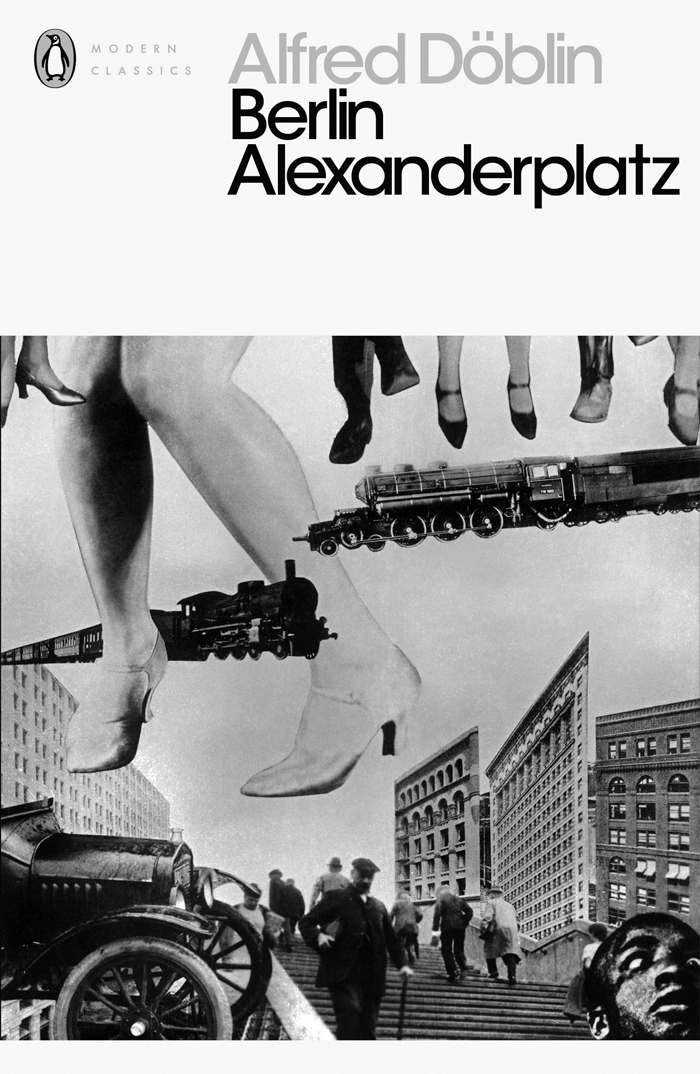

Короче говоря, я бессознательно сделал фантазию Дёблина своей жизнью. И все-таки не в последнюю очередь именно этот роман помог мне преодолеть последовавший опасный кризис и работать над тем, что в итоге, надеюсь, с весьма большой вероятностью могло стать так называемой идентичностью, коль скоро это вообще возможно в нашем паршивом дерьме.
Спрашивающему об истории романа «Берлин, Александерплац» нужно честно ответить, что, собственно, в самой истории ничего необычного нет.
Затем я посмотрел фильм Пиля Ютци «Берлин — Александерплац», который сам по себе показался мне вполне хорошим, никоим образом не плохим. Однако роман Дёблина в этом фильме был совершенно забыт. Книга и фильм не имеют между собой ничего общего. Независимо друг от друга, каждый из них, безусловно и фильм Ютци, является произведением искусства. А поскольку я главным образом отождествляю себя все-таки именно с кино, я в ту пору решил когда-нибудь (почему «когда-нибудь», уже не помню), накопив опыта, предпринять попытку экранизации Дёблинова романа и рискнуть в качестве эксперимента запротоколировать кинематографическую работу с этой совершенно специфической литературой.

Взялся я за этот проект лишь через десять с лишним лет. И не сложись ситуация так, что мне пришлось снимать этот фильм, иначе бы его снял кто-нибудь другой, я бы, наверно, потянул еще некоторое время. Между тем в очень многие свои фильмы последнего десятилетия я вплел цитаты из романа Дёблина. А затем — по причине того, что обо мне писали книгу, — я за три дня пересмотрел все собственные фильмы. И опять — на сей раз это здорово меня огорошило — констатировал, что цитат в моих работах куда больше, чем я предполагал, причем в основном неосознанных.
Тогда я снова перечитал книгу, теперь мне хотелось точнее разобраться, что происходило между мной и романом Дёблина. Многое весьма существенное стало яснее, однако важнее всего, пожалуй, было само понимание, а затем и признание, что этот роман, это произведение искусства, оказался со-решающим в развитии моей жизни.
Конечно, каждый, кто не читал «Берлин, Александерплац», спросит теперь, что же за историю рассказывает Альфред Дёблин, если она хотя бы для одного-единственного читателя могла приобрести настолько большое, почти экзистенциальное значение, ведь для отдельного произведения искусства, воздействие, пожалуй, довольно-таки необычное. Спрашивающему об истории романа «Берлин, Александерплац» нужно честно ответить, что, собственно, в самой истории ничего необычного нет. Скорее, наоборот. История бывшего транспортника Франца Биберкопфа, который выходит из тюрьмы, дает клятву отныне вести порядочную жизнь и никак не может выполнить свое обещание, это скорее последовательность отчасти невероятно грубо прицепленных друг к другу беспорядочных мелких историй, каждая из которых могла бы дать скабрёзнейший гвоздевой материал скабрёзнейшим бульварным газетенкам. Главное в романе «Берлин, Александерплац» не сама рассказанная история, и это роднит его с некоторым другими великими романами мировой литературы, его композиция, пожалуй, еще смехотворнее, чем композиция гётевского «Избирательного сродства», — главное в том, как рассказывается невероятно банальное и неправдоподобное в его сюжете. И в позиции автора по отношению к персонажам происходящего, которых он печально обнажает перед читателем, а с другой стороны, учит смотреть на этих обнаженных до посредственности с величайшей нежностью, в итоге любить их.
Райнхольду надо привыкать подольше оставаться с одной женщиной, ведь это нормально и полезно, а другое вредно.
На этом месте я все-таки попытаюсь коротко пересказать чистый сюжет. Как я уже говорил, бывший транспортный рабочий Франц Биберкопф выходит из тюрьмы, отсидев четыре года за произведенное взбивалкой для сливок убийство своей бывшей подруги Иды, которая ради него в экономически тяжелые двадцатые годы пошла в Берлине на панель. Выпущенный арестант поначалу испытывает обычные проблемы с потенцией, но избавляется от них, едва не изнасиловав сестру своей жертвы, после чего ему удается завести отношения с полькой Линой, причем таким способом, что она считает это любовью и заставляет Франца поклясться вести отныне порядочную жизнь, ну в общем… и так далее…

Экономические обстоятельства катастрофичны, все попытки создать стабильную основу кончаются неудачей, чем бы он ни занимался — булавками для галстука, эротической литературой или газетой «Фёлькишер беобахтер», которая создает ему сложности с давними друзьями, коммунистами, ведь когда-то он делал с ними общее дело, из большой симпатии. Остаются разве только шнурки, человеку без них не обойтись, и он продает их вместе с дядей своей Лины, пока тот, воспользовавшись доверием Франца, не принимается шантажировать и угрожать вдове, которую Франц сделал счастливой и получил за это немного денег. Франц, непоколебимо верящий в доброту человеческой натуры, так оскорблен, что удаляется от мира и людей, надолго впадает в запой, но потом все же возвращается к жизни и людям.
И тут он знакомится с одним парнем. Зовут парня Райнхольд, он мелкий гангстер, но чем-то до странности обаятелен, настолько обаятелен, что Франц заключает с ним особенную сделку: забирает у Райнхольда женщин, которые тому слишком быстро надоедают, бабенки у него прямо-таки больное место, сперва он хоть кровь из носу должен бабенку заполучить, а потом снова от нее отделаться, вдруг, резко, но это ему дается трудно, с этим у него сложности, а вот Франц — он считает Франца глуповатым, но замечает, что тот им заворожен, — Франц их у него забирает, в смысле бабенок, сперва одну, потом другую, однако на третьей упирается. Райнхольду надо привыкать подольше оставаться с одной женщиной, ведь это нормально и полезно, а другое вредно, вдобавок Франц хочет помочь Райнхольду, по-настоящему. А что Райнхольд поначалу этого не понимает и обижается, Франц Биберкопф прекрасно понимает, так уж оно есть.

В общем и целом не более чем трехгрошовый роман, в деталях не более чем подборка статеек из бульварных газет.
Вскоре случайно выясняется, что Франц участвует в одном деле, которое считает вполне законной перевозкой фруктов, а теперь вдруг смекает, что это воровство. Он стоит на стрёме, хочет убежать, но безуспешно. Кража состоялась, Франц едет с Райнхольдом в машине, и вдруг Райнхольд чувствует, что их преследуют. Райнхольда захлестывают страх перед преследованием и злость на Франца. И тогда — в этом сквозит что-то лунатическое — Райнхольд внезапно выбрасывает Франца из машины. Следующий автомобиль наезжает на Франца, кажется, он наверняка мертв. Но Франц Биберкопф не умирает, только теряет правую руку. Бывшая подруга Ева и ее сутенер выхаживают его, без правой руки он снова идет в город, знакомится с мелким гангстером, для которого занимается укрывательством, что обеспечивает ему некоторое благосостояние. Ева приводит ему девушку, которую он называет Мице, и которая, как позднее выясняется, идет ради Франца на панель. Франц на это соглашается, и какое-то время они оба счастливы. Любят друг друга. Но Райнхольд вмешивается и в эти отношения, несколько раз встречается с девушкой и в конце концов убивает ее. За это убийство задерживают Франца, он попадает в сумасшедший дом, где в ходе продолжительного как бы «обратного очищения» становится обыкновенным, приемлемым членом общества. В нем больше нет ничего особенного. Наверно, он станет националистом, так разрушила его встреча с Райнхольдом. Вот и вся история.
В общем и целом не более чем трехгрошовый роман, в деталях не более чем подборка статеек из бульварных газет. Так что же делает этот сюжет великим произведением? Конечно же то, как это сделано. В «Берлин, Александерплац» объективно ничтожным и попросту посредственным эмоциям, чувствам, счастливым мгновениям, стремлениям, удовлетворениям, боли, страхам, дефицитам сознания именно якобы неприметных, неважных, незначительных индивидов, словом, так называемым «маленьким людям» придается такое же значение, какое в искусстве придается обычно лишь так называемым «великим». За людьми, о которых повествует «Берлин, Александерплац» — в особенности, конечно, за главным героем, бывшим транспортным рабочим Францем Биберкопфом, позднее сутенером, убийцей, вором и опять сутенером, — Дёблин признает столь дифференцированное и соединенное с прямо-таки невероятной фантазией и страстностью подсознание, в каком большинству персонажей мировой литературы — разумеется, насколько могу судить лично я — отказано, пусть даже это, к примеру, весьма образованные люди, интеллектуалы, великие влюбленные.
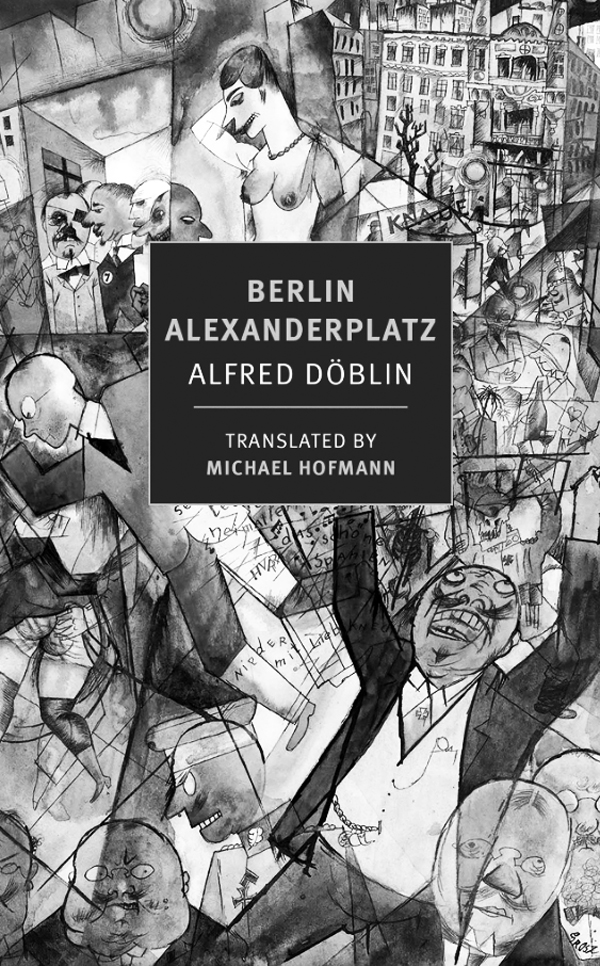

Рискну утверждать, что на отношение Дёблина к собственным персонажам, существам объективно жалким и незначительным, почти наверняка повлияли открытия Зигмунда Фрейда, хотя сам Дёблин неоднократно это отрицал. Тем самым «Берлин, Александерплац», вероятно, первая попытка перенести фрейдовский опыт в сферу искусства. Это во-первых.
Знал ли Дёблин «Улисса» Джеймса Джойса, прежде чем написал «Берлин, Александерплац», или не знал, не делает его роман ни лучше, ни хуже.
Во-вторых, Дёблин описывает каждый фрагмент действия, даже крайне банальный, как само по себе значимое и грандиозное событие, нередко как часть мнимо таинственной мифологии, а порой и как перевод в религиозные аспекты, будь то христианские или еврейские.
Перейдя от иудаизма в католицизм, Дёблин имел больше проблем с религией, чем бывает обычно. Может статься, потому и пытался совладать с этими проблемами, выявить в обычном религиозно особенное и рассказать об этом.

Говоря упрощенно, это означает, что ни один момент действия, даже если он вполне самодостаточен, не стоит сам по себе, а представляет собой также еще и момент второго, другого, непостижимого и таинственного рассказа, то есть часть второго романа в романе или, может быть, часть личной мифологии автора, но сейчас я не стану вникать, что это именно.
В-третьих, повествовательная техника, придуманная Дёблином для «Берлин, Александерплац», а может быть, просто выбранная. В общем-то, придумана она или нет, для меня значения не имеет, и важности я этому отнюдь не придаю, ведь самое главное, выбрал ли автор правильные средства для реализации своих намерений, а уж изобрел он их или нет, пусть докапываются литературоведы, для читателя это роли не играет, ему выпадает счастье прочесть роман, для которого автор нашел адекватную форму, и вот это Альфред Дёблин в «Берлин, Александерплац» сделал с бессознательной точностью. Знал ли Дёблин «Улисса» Джеймса Джойса, прежде чем написал «Берлин, Александерплац», или не знал, не делает его роман ни лучше, ни хуже. Впрочем, я вполне могу себе представить, что два автора почти одновременно придумывают почти одинаковые новые приемы, почему бы и нет, собственно говоря. Как в истории вообще, так и в истории литературы не все объяснимо из самого себя. И надеюсь, некая тайна останется навсегда.

«Берлин, Александерплац»: Территория эпилога
Зато интереснее вопроса о том, знал ли Альфред Дёблин «Улисса», я нахожу идею, что на язык в «Берлин, Александерплац» повлиял ритм поездов городской железной дороги, которые постоянно проезжали мимо кабинета писателя. Язык романа действительно отмечен подобными вещами, в основном, шумами большого города, его специфическими ритмами, непрерывным безумием вечного движения. А от осознанной жизни в большом городе, от совершенно особенного настороженного внимания к всему, чтó, собственно, значит — жить в таком городе, наверняка вытекает и прием коллажа, который Дёблин использует в своем романе, вообще одном из немногих романов о большом городе. Жизнь в большом городе означает безостановочные перемены в восприятии звуков, образов, движений. И сходным образом меняются средства выбранных частиц рассказа, аналогично переменам интереса настороженного обитателя большого города, причем ни этот обитатель, ни рассказ нисколько не теряют себя как центр.
Больше и точнее об особенностях стиля Дёблина пусть расскажут другие, я могу только упомянуть, что Дёблин написал не один этот роман, написал произведения, которые, возможно, для позднейших поколений будут значить больше, станут куда важнее, чем ныне «Берлин, Александерплац». А что Дёблина будут читать, больше, куда больше, чем сейчас, я могу только пожелать. На благо читателям. И жизни.
Март 1980 г.
Перевод: Нина Федорова







