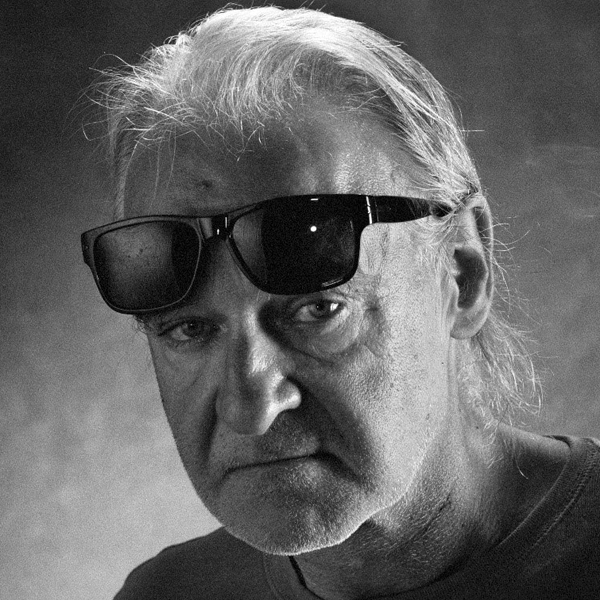Бела Тарр: от соцреализма к «теологии смерти Бога»
СЕАНС — 45/46
Кто-то однажды сказал, что есть две категории авторов: авторы-деревья и авторы-ракеты. Первые пускают корни, вторые отбрасывают ступени. Кумир Ван Сэнта и Верасетакуна венгерский режиссер Бела Тарр принадлежит, вероятно, к странной третьей породе авторов — деревьев-ракет: чем выше он взлетает, тем длиннее корни. Тарр неоднократно признавался, что всю жизнь снимает один и тот же фильм, в котором ставит один и тот же вопрос, и только ответы разные. Если ранние ленты усматривают причину человеческих несчастий в обществе, то поздние в человеческом бытии и даже шире — в космосе, мироздании. Или, говоря словами самого режиссера: в молодости, он полагал, что shit is social, затем, что shit is ontological, и наконец пришел к выводу, что shit is cosmical. Начав с реалистического, полудокументального показа жизни пролетариев, спустя тридцать четыре года он снял фильм о мире после «смерти Бога». После этого ракета покинула стратосферу, корни оборвались: Тарр заявил, что эта картина была его последней.

Shit is social
Бела Тарр родился в 1955 году — за год до «венгерских событий» (так называют венгерскую революцию 1956-го наши учебники истории), приведших к свертыванию либеральных реформ и приходу к власти Яноша Кадара, чья эпоха правления была в народе названа «гуляш-коммунизмом»: Венгрия, как и все участники Варшавского договора, зависела от Москвы, но, в сравнении с другими странами соцлагеря, здесь царила относительная свобода. В шестнадцать лет Тарр снял свой первый фильм: двадцатиминутную документалку о цыганской трудовой бригаде, пишущей Кадару письмо о безработице. Кино заинтересовало важную венгерскую киноинституцию тех лет — Студию Белы Балаша. Короткометражка вызвала такое раздражение у чиновников, что Тарру не удалось поступить в университет, где он планировал изучать философию. Близкие к Студии Балаша кинематографисты делили себя на два лагеря: одни делали политическое документальное кино, другие занимались поиском нового киноязыка. Тарр этого разделения не признавал. В двадцать два года при моральной поддержке Студии (то есть без бюджета) за неделю он снимет свою первую полнометражную картину «Семейный очаг» (1977). В центре этой драмы жизнь многочисленного венгерского семейства в условиях жилищного кризиса: в крохотной квартирке ютятся взрослые дети и родители. Дефицит квадратных метров превращает в ад жизнь молодой жены. Ее муж приходит из армии, и становится очевидным, что со свекром и свекровью им не ужиться. Расселить родственников социальные службы не в силах. Социальная актуальность замысла облагорожена языком синема-верите: непрофессиональные актеры, ручная камера, грань между игровым и неигровым кино фактически стерта. Ощущение документальности нагнетается еще и тем, что в монтаже Тарр пренебрегает привычным зрителю «восьмерками» — эпизоды разговоров начинаются обычно с монолога взятого крупным планом героя. Как будто он говорит «на камеру», хотя та просто-напросто не спешит поворачиваться к его молчащему слушателю. Таков язык первых картин Тарра. С подачи критика Джонатана Розенбаума этот период связывают с влиянием Джона Кассаветиса, хотя сам Тарр отрицает знакомство с фильмами последнего, указывая в качестве источников вдоховения документалистов «будапештской школы» и фильмы Фасбиндера. Через несколько лет эта «ступень» ракеты Тарра будет отброшена, и заговорят о стилистическом разрыве в его фильмографии. И за обсуждением причин этого разрыва забудут то, чем отличались ранние фильмы Тарра, то, что навсегда останется в его кино: внимание к реализму лиц и поз, к едва заметному напряжению мышц, тончайшим лицевым движениям, к спонтанности реакций.

Еще одна неизменная черта поэтики Тарра — неприязнь к историям, в которых «что-то происходит».
В первом, как и во всех четырех снятых по сценариям Тарра фильмах, уже заявлена важнейшая для режиссера тема дома, семьи. Его интересует, как изменяется человек под воздействием социально-политической машины и как семья становится проводником воли этой машины или, напротив, щитом, экранирующим ее воздействие. Речь идет не только о «роли семьи», но и о топоанализе (воспользуемся термином Башляра) — психологическом исследовании жилого пространства. Фильмы Тарра, ранние и поздние, называют клаустрофобичными: это род бытовой клаустрофобии, на которую в городской жизни, как правило, не обращают внимания. Даже, когда после получасовых посиделок на тесной кухне, где множество одновременно звучащих голосов сливаются с теленовостями, зритель вместе с супругами из «Семейного очага» попадает в парк развлечений, выход на улицу не отменяет гнета сжатого пространства семьи и страны. При этом первая картина Тарра — самая оптимистичная из всех: разлученным, льющим слезы супругам дом все-таки обещан — строчками мажорной песни в финале, которая как будто призвана превратить драму в комедию.

Второй фильм, «Аутсайдер» (1981), один из трех цветных в творчестве Тарра, традиционно считают слабым, наименее «тарровским». Неприкаянный скрипач меняет работы — служит лабухом в ресторане, медбратом в доме умалишенных, заводским рабочим, диск-жокеем — перед зрителем проходит панорама социальных институтов «гуляш-коммунизма». У скрипача есть ребенок, но вместо его матери он женится на другой, которая изменяет ему с его братом. Печальная история может не на шутку увлечь: смена занятий «аутсайдера» позволяет разнообразить социальный ландшафт. Среди второстепенных персонажей преобладают комические, вроде болтливого бородача, преподавателя итальянского и французского, который подрабатывает на заводе, а в свободное время поет на дискотеке House of the Rising Sun. Фильм заканчивается многоточием — повисшей нотой, неразрешенными конфликтами, невыбранной дорогой: струнное трио играет в ресторане не для главных героев. Так формулируется еще одна неизменная черта поэтики Тарра — неприязнь к историям, в которых «что-то происходит». Как не устает повторять сам автор, единственное, что остается от происходящего на экране, это время. Поэтому даже при обилии драматических событий в первых фильмах Тарра, финал обычно дедраматизирован. Уже в следующем фильме этот эффект «стоящего на месте времени» получит структурное выражение: оно будет представлено как круг.
Выход возможен лишь при отвлечении, абстрагировании от социального.
Третья картина Тарра — «Крупноблочные люди» (1982) — прямо продолжает линию «Семейного очага»: она рассказывает об отношениях супругов среднего возраста, которые уже обзавелись собственной квартирой в спальном районе, но не знают и не любят друг друга, живя вместе скорее по привычке. Фильм начинается и заканчивается сценами, разнящимися лишь в деталях: муж пакует чемодан и под стенания жены и плач ребенка уходит из дома. Кольцо замкнулось, все, что произошло на этом отрезке, это попытка объяснить этот поступок: муж скучает на работе и предпочитает компанию друзей своей жене, не имеющей ни друзей, ни занятий, ни имени (в фильме оно не прозвучит), но требующей его внимания, — обычная, узнаваемая «несчастливость». После повторного (или все того же, но повторенного: повествование может читаться и как нелинейное) ухода мужа все вдруг начинается заново: супруги, купив стиральную машинку, молча едут под титры в кузове грузовика по будапештскому Купчино. Круг нерушим: социальные условия несущественны, а личные решения ни к чему не приводят. Выход возможен лишь при отвлечении, абстрагировании от социального. Не случайно следующая учебная работа Тарра, сделанная для Венгерской высшей школы театрального и киноискусства, повествует не просто о семейной паре, а о чете Макбет.

Shit is ontological
Тарр разочаровался в «социальном» кино несколько раньше, чем встретился с писателем и будущим своим сценаристом Ласло Краснахоркаи. И если подходить формально, то раннего Тарра от Тарра «онтологического» и «космического» отличают не перемены драматургии, а сокращение количества монтажных склеек и стабилизация камеры. В социальной трилогии уже были длинные планы, но монтаж еще оставался рваным и небрежным, а ритм скакал, но начиная с четвертого фильма длина плана стремится к максимально дозволенной пленкой Kodak (об этих краеугольных одиннадцати минутах Тарр отзывается не иначе, как о «цензуре в кино»), монтаж переносится внутрь кадра, а движения камеры становятся плавными, почти сомнамбулическими.
Личные бесы и есть та сила, которая не позволяет персонажам вырваться за пределы бытийного круга.
Однако даже в ряду поздних картин Тарра его телеадаптация «Макбета» стоит особняком: в ней всего одна монтажная склейка — между пятью минутами предсказания и часом развертывающегося безумия. Камера мечется по трехсотметровому лабиринту, воспроизводящему удушливую атмосферу средневекового замка, давая слово то одному, то другому персонажу. Отсутствие склеек как бы принуждает зрителя не моргать, не отрывать взгляд. Таким способом удаётся показать безумие Макбета, как непрерывную амплификацию. Роль коварного шотландца исполнил актер Дьёрдь Черхалми, снимавшийся также у Миклоша Янчо и Иштвана Сабо.

Четвертый фильм Тарра, последний цветной и последний снятый по собственному сценарию, «Альманах в осеннюю пору» (1985), отдает дань бергмановскому семейному анализу в «Осенней сонате» и стриндберговской драматургии. Эпиграфом фильму служит строфа из Пушкина (ставшая также эпиграфом к «Бесам»):
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
В этих строчках сформулирована онтологическая концепция Тарра — бытие есть круг, и намечена тема демонологии: личные бесы и есть та сила, которая не позволяет персонажам вырваться за пределы бытийного круга. Герои фильма — богатая мать со взрослым сыном, ее сиделка с мужем и пожилой учитель — обитают в герметичном, отделенном от внешнего мира доме. Жажда денег удерживает обитателей дома при матери и заставляет их скрывать взаимное презрение. Продолжительные разговоры тет-а-тет перемежаются потасовками, одна из которых снята снизу, сквозь стеклянный пол. Финал — хорошая мина при плохой игре: все танцуют, и всё (кроме арестованного за кражу учителя) остается на своих местах. Демоны в том числе.
С той же внимательностью, с которой камера Тарра смотрела на человека, она начинает изучать природу.
Топоанализ в «Альманахе» как бы перемещается в лабораторию: условные пространства дома изображены в технике тенеброзо и искусственно вирированы — каждому персонажу и состоянию соответствует своя часть спектра. Если этот первый опыт стилизации отсылает к Гринуэю, то следующий фильм, принесший Тарру известность за пределами Венгрии, к Тарковскому. Теологические различия между последними, однако, бесконечно отдаляют их друг от друга.

Shit is cosmical
Эволюцию Тарра обычно описывают как движение от «реалистичного» к «метафизическому». Сам режиссер при этом слово «метафизика» не жалует. Метафизику в его фильмы вложил писатель Ласло Краснахоркаи, знакомство к которым происходит в середине восьмидесятых. Прежде диалоги у Тарра носили характер экзистенциальной болтовни, теперь они становятся поэтичными. Его сюжеты не выходили за границы бытовых и семейных неурядиц, теперь они погружаются в кафкианский кошмар и обретают ветхозаветную значительность. С той же внимательностью, с которой камера Тарра смотрела на человека, она начинает изучать природу. Успех поздних фильмов Тарра, возможно, и был обусловлен редким синтезом настойчивой реалистичности и отвлеченного взгляда на человека. Последняя «ступень» стилистической ракеты отброшена, но вопросы продолжают корениться в старой почве.
Дьявольский танец не обходится без потустороннего света.
Первый плод сотрудничества Тарра и Краснахоркаи — черно-белое «Проклятие» (1987) — стал призером на фестивале в Бергамо, а позже попал в список любимых фильмов Сьюзен Зонтаг. В мрачном, апокалиптическом мире этого фильма всегда туманно и дождит: он похож на разросшуюся Зону Тарковского. Исполнивший главную роль актер Миклош Секеи это Солоницын Белы Тарра. Его герой — алкоголик, влюблённый в певицу из бара, — получает от бармена предложение переправить в другой город пакет с деньгами. Сам он отказывается, но предлагает работу мужу певицы, чтобы получить возможность остаться с ней наедине. Двухдневный роман не получает продолжения: певица изменяет ему с барменом. Этот псевдо-нуаровый сюжет о неудавшейся попытке любви нужен Тарру лишь как предлог для создания атмосферы обреченности — за счет медлительных путешествий камеры, фиксирующей фактуру стен и земли, многослойных мизансцен с одинокими людьми и вещами, индустриальных шумов. В конце фильма вновь возникает образ круга: обитатели этого богооставленного места пускаются в хоровод. Главный герой сетует, что даже безумие для него недостижимо. Как говорил Гибарян из «Соляриса»: «это было бы избавлением». Напрашивается и сравнение с Антониони. Если герой фильма «Профессия: репортер», с которым Антониони, по его словам, идентифицировал себя как художник, с самого начала неосознанно стремится к своей смерти, то для персонажей «Проклятия» смерть как будто ничего не изменит — вероятно, потому, что зло, по Тарру, присуще не человеку, а, шире, космосу в целом.

Впрочем, состояние «проклятости», сколь привлекательным оно ни было для художественного изображения, все же недостаточно привлекательно, если нет хотя бы дразнящего проблеска, иллюзии надежды. А если нет и надежды, то пусть будет хотя бы иногда смешно.
Заглядывая в огромный стеклянный глаз, герои поражаются, но не могут извлечь из этого зрелища человеческий смысл.
На тонком сочетании трагедии и политической сатиры покоится величие «Сатанинского танго» (1994). Эта картина по одноименному роману Краснахоркаи, отмеченная призом на Берлинском кинофестивале, задумывалась еще до «Проклятия» и снималась в течение четырех лет. Ее хронометраж — семь с половиной часов (при всего ста пятидесяти монтажных склейках), в связи с чем она с трудом находила себе дорогу в кинотеатры и долгое время не выпускалась на DVD. Фильм состоит из трех частей, разделенных паузами, и двенадцати глав, отвечающих структуре танго (шесть шагов вперед, шесть назад). Содержательно он представляет собой фолкнеровскую по глубине летопись двухдневной жизни деградирующей венгерской деревушки, населенной героями как будто из Достоевского. Основная сюжетная линия — возвращение в деревню харизматичного прохвоста (его роль исполняет Михай Виг, постоянный композитор Тарра), который возглавит исход жителей в другое, якобы счастливое место, — перебивается двумя частично пересекающимися историями, образующими эмоциональное средоточие картины. Первая история — о грузном неповоротливом спивающемся докторе (в исполнении немецкого актера Петера Берлинга, сотрудничавшего с Херцогом, Фасбиндером, Анно и Скорсезе), который следит из окна за соседями и тщательно протоколирует все их действия. Но камера следит за ним еще более внимательно. Опыт наблюдения за этим доктором мог бы сравниться с опытом просмотра «Жанны Дильман», если бы та, готовя или занимаясь уборкой, дублировала в реальном времени все, что она видит, в словах и рисунках на бумаге, — иначе говоря, ничего подобного кинозритель раньше не испытывал. Вторая история вдохновлена «Мушетт» Брессона: игнорируемая матерью-проституткой, обманутая братом, маленькая девочка вымещает свой страх и тоску на кошке — сперва мучает и отравляет ее, а затем принимает яд сама. Камера созерцает сцены жестокости без характерного для девяностых сладострастного любопытства, а скорее с ныне забытым брессоновским состраданием, которое тем больше, чем труднее от них отвернуться. Но, в отличие от Брессона, Тарр и Краснахоркаи не могут сохранять янсенистское спокойствие в момент смерти ребенка: закадровый голос озвучивает уверенность умирающей, что «ее ангелы уже летят за ней». Дьявольский танец не обходится без потустороннего света.

Финал фильма не столько страшен, сколько абсурден: последним наблюдателем этого мира становится доктор, для которого смысл происходящего окончательно распадается. Трудно не разделить мнение Сьюзен Зонтаг, которая говорила, что хотела бы пересматривать «Сатанинское танго» раз в год.
Следующая картина, «Гармонии Веркмейстера» (2000), закрепляет за Тарром мировую славу мастера эпизода и пессимистичного модерниста. Снятый по роману Краснахоркаи «Меланхолия сопротивления», это гротескный рассказ о том, как в деревушку, расположенную в венгерской Пусте, для увеселения публики привозят чучело кита. Жители, уставшие от необычно сильных морозов и напуганные приездом чужаков, разражаются бунтом, бессмысленность которого может сравниться только с его беспощадностью. Название картины отсылает к теориям хорошей темперации барочного композитора Андреаса Веркмейстера, которые, согласно чтимому жителями деревни музыковеду (одному из ключевых персонажей фильма), привели к разладу в современной музыке. То есть мнимое объяснение социальным процессам находится не в психологии, а в музыкальных законах и связанной с ними дисгармонии небесных сфер.
Если заявление об уходе из кино не шутка, то оно выглядит закономерным итогом творческой эволюции.
Этот фильм, как и все фильмы, снятые по текстам Краснахоркаи, отчасти перенимает стилистику великих фигур «трансцендентального стиля», к которым режиссер и теоретик Пол Шрейдер относил дзен-буддиста Одзу, католика Брессона и протестанта Дрейера1. Как во всех поздних фильмах, здесь ведётся скрытая полемика с этими «учителями». Тарр оспаривает идею трансцендентности и ставит под сомнение возможность человеческими силами вырваться из порочного бытийного круга. В «Гармониях» звучат слова: «Мы разрушаем то, что строим. Фундамент, основание — вера» Главный герой, молодой почтальон вычитывает их из подобранной после погромов книги. В мире Тарра веры, конечно, нет. «Верите ли Вы в Бога?» — этот вопрос часто задают ему в интервью, и до последнего времени он всегда отвечал на него, что верит в людей. Вместо Бога в «Гармониях» — чучело кита, лежащее на центральной площади как нечто непостижимое и прекрасное. Заглядывая в огромный стеклянный глаз, герои поражаются, но не могут извлечь из этого зрелища человеческий смысл. Только так и может являться божественное.
1 См.: Schrader P. Transcendental style in film: Ozu, Bresson, Dreyer. Cambridge: Da Capo Press, 1988.

Фильм 2007 года «Человек из Лондона» стал еще одним отступлением от высоты, взятой «Сатанинским танго». Малоизвестный роман Жоржа Сименона о портовом работнике, который оказался случайным свидетелем убийства и обладателем чемодана денег, Тарр превратил в замедленный, медитативный нуар, мораль которого — «ничего не происходит». «Идите домой и попытайтесь забыть все это», — говорит в финале детектив главному герою, который безусловно последует этому совету. Критики привыкли к Тарру. Одним из главных отличий этого фильма от предыдущих было названо участие в роли второго плана актрисы Тильды Суинтон.
К «ничто» все и так катится само по себе.
Тарр говорит о «Туринской лошади» (2011) как о своем последнем фильме. Если заявление об уходе из кино не шутка, то оно выглядит закономерным итогом творческой эволюции: речь в фильме идет о мире после Ницше, то есть после «смерти Бога». Краснахоркаи привлек внимание Тарра к одному событию в жизни немецкого философа, предшествовавшему его безумию: будучи в Турине, тот наблюдает, как извозчик избивает лошадь, и, не выдержав жестокости, якобы кидается в слезах ей на шею. Фильм додумывает и исследует дальнейшую судьбу этой лошади, а также ее владельцев.

Напомним, что, говоря о смерти Бога, Ницше имел в виду утрату смысла существования, «который мог бы заключаться в следующем: ««осуществление» некоего высшего нравственного канона во всем совершающемся, нравственный миропорядок; или рост любви и гармонии в отношении живых существ; или приближение к состоянию всеобщего счастья; или хотя бы устремление к состоянию всеобщего «ничто» — цель сама по себе есть уже некоторый смысл»2. Устремление к «ничто» — путь нигилизма, сознательного разрушения, который Тарр и Краснахоркаи, очевидно, не выбирают: к «ничто» все и так катится само по себе. На реальность этой ситуации не могли закрыть глаза и богословы: в так называемой «теологии смерти Бога», развивающейся начиная с семидесятых годов, предпринимается попытка описания мира, в котором божественное начало исчезло, но религиозное чувство (требование «высшего нравственного канона» и так далее) осталось. Знаменитое решение, предлагаемое в этой ситуации Ницше, — «воля к власти»: преодоление пустоты бытия голой волей, которая держится на одной себе («Шкалой силы воли может служить то, как долго мы в состоянии обойтись без смысла в вещах, как долго мы можем выдержать жизнь в бессмысленном мире»3). В таком случае фильмы Тарра и Краснахоркаи (который, кстати, посещал лекции на теологическом факультете) — о ностальгирующей и постоянно срывающейся воле, о том, какой может быть теология после того, как ее предмет перестал существовать. В одном из интервью Тарр говорит, что его любимой сказкой в детстве были «Приключения Мюнхгаузена»: вытаскивать самим себя за волосы — вот все, что нам остается. Поэтому ответственность за всеобщий распад он в последнем фильме возлагает не только на покинувшего мир Бога, но и на людей. Может ли что-нибудь еще быть сказано после этого? Вероятно, может — если замысел новой кинокартины Тарра будет составлять антитезу «Проклятию».
2 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. Москва: Культурная революция, 2005. С. 33.
3 Там же. С. 332.