Евгений Гранильщиков: «Экраны — это часть пейзажа»

Евгений гранильщиков. Фото: Никита Шохов
— Что такое Unfinished Film? Это незаконченный антифильм, который не может быть закончен и будет пополняться?
Евгений Гранильщиков: В тот момент, когда мы приступили к нему, форма была совершенно неясна. Нет никакой хронологии, нет никакого сценария. Эпизоды просто добавляются, хочется доснять что-то еще. В какой-то момент я просто понял, что это и есть форма фильма, ее не нужно закрывать. Но в итоге это оказалось достаточно проблематично: для того, чтобы показывать кино на фестивалях, нужно делать dcp, что требует и денежных, и временных ресурсов. И получается, что с этим фильмом возникает проблема: каждый раз необходимо делать новую dcp-копию.
— То есть, это антифильм даже в логистическом смысле.
Е.Г.: Да, да! Это совершенно невозможный фильм (Смеется). Я не могу его показывать, потому что все время нужно делать эти dcp. Чудовищно. И сейчас я пытаюсь выработать какую-то жесткую позицию… Может быть, показывать только в том формате, в котором мне легче его предоставить — выдвигать такое условие фестивалям. То есть фильм действительно неудобный, со всех точек зрения.
— Вы сейчас затронули болевую точку современного кино — оно стало частью визуального потока, почти растворилось в нем, и чтобы фильм сохранился как фильм, ему надо оберегать свою законченность и свой ограниченный хронометраж. Фильм — это произведение с ограниченным хронометражом, точка. Это то, у чего есть начало, середина и конец. В том числе и потому, что хронометраж —проявление авторской воли: зритель должен сидеть и смотреть от и до, по велению автора. Но герметичность фильма — как раз то свойство, которое в визуальном потоке ставится под сомнение. И незаконченный фильм может кем-то восприниматься очень болезненно.
Е.Г.: Да, я часто сталкиваюсь с подобными спорами. Они и для меня очень болезненные. Ведь я тоже люблю кино. И я тоже могу защищать какие-то свои вещи. И эта борьба не проходит бесследно.
— Еще одна проблема, которую сегодня вынуждено решать кино — взаимодействие с цифровой средой, с маленькими экранами, которые отовсюду нас атакуют. И сейчас многие — и коммерческие режиссеры, и художники — по-разному пытаются встраивать в киноэкран интерфейс социальной сети, маленький экран компьютера, смартфона. У вас мониторы на экране становятся чуть ли не навязчивой идеей. Почему вы это делаете, как вы это делаете?
Е.Г.: Если это выглядит как навязчивая идея, то это, наверное, плохо…
— Экран в экране такая же больная тема, как и изображение в кино живописного полотна. Андре Базен писал, что киноэкран неизбежное разрушает живописное пространство: рама картины очерчивает границы, противопоставляет живопись действительности и поляризует пространство вовнутрь, а киноэкран напротив — центробежен. Мне кажется, с экраном компьютера похожая проблема, но сейчас кино учится с этой проблемой справляться. И у вас, мне кажется, это хорошо получается.
Е.Г.: Мне кажется, что для кино в принципе существует столько болезненных тем, что когда ты интересуешься новой оптикой, пытаешься эту новую оптику найти, ты постоянно на них наталкиваешься. Я специально об экранах не думал, но понимал, что постоянно неосознанно наступаю на болевые точки. Просто потому что они существуют. Мы часто сталкивались с ортодоксами, которые отстаивают определенные позиции в кинематографе, например, по поводу того, что такое «фильм». Мне они чем-то напоминают религиозных фанатиков, которые ведут агрессивную защиту, переходящую в нападение. Так вот, я просто делаю свое дело, пытаюсь что-то обнаружить, подобрать новую оптику, сфокусироваться на героях иначе, и совершенно не важно — через множество экранов или через один. Возможно, этот ход банальный, вернее, это естественный поиск, но все же он делается не ради экранов, не ради чистой визуальности. Мне кажется, это важная пластика, связанная с пейзажем, ландшафтом, в котором присутствует герой. Экраны — просто часть пейзажа, наравне, скажем, с городом.

Премьера Unfinished Film в Оберхаузене
— У вас это действительно выглядит как часть пейзажа, как и в реальности, где экран смартфона уже находится в одном ряду с вывесками, домами, деревьями, рекой, прохожими… В этом году в Роттердаме среди призеров оказался фильм «Видеофилия (и другие вирусные синдромы)», в котором атрибуты цифровой среды выходят за пределы screen capture и в полном смысле становятся частью пейзажа. Но вы когда снимаете маленький экран, думаете о том, как он будет выглядеть внутри большого, или это тоже происходит интуитивно?
Е.Г.: Мне кажется, что в этом языке — я имею в виду монтаж, в котором две картинки постоянно сопоставляются, и мы постоянно думаем об этом сопоставлении — два лежащих рядом кадра всегда работают определенным образом. В некоторых случаях я кадрировал сцену так, чтобы она была похожа на классический кинематограф, условно, на кадр Урусевского, а потом шел какой-то дигитальный кадр. Но здесь нужно говорить об очень конкретной пластике. Это не просто сопоставление двух пространств, которые, быть может, не соединялись ранее, и потому это соединение для зрителя оказывается неожиданным, трудным. Должны быть какие-то пластические моменты в самих этих кадрах, которые подразумевают соединение. И когда эти кадры соединяются — вдруг… Я хочу сказать, что дело не только в некотором обновлении и попытке втащить один экран в другой… Рабочий стол компьютера, который мы видим, например, в «Похоронах Курбе», создает определенное пространство интимности. С этим надо определенным образом работать, думая одновременно о пластике, о том, что это значит, вынимая различные коннотации из этих кадров и сопоставляя коннотации двух соседних кадров.
Евгений Гранильщиков. «Похороны Курбе». 2014
— Конечно, экран в экране создает ощущение интимности, когда ты заглядываешь другому на десктоп или в смартфон с личной перепиской. Кстати, о тексте. Один и тот же текст у вас существует в разных ипостасях: как изображение, как узор на экране; как именно текст с определенным смыслом, который можно прочесть про себя; как аудио, когда его начинают читать вслух.
Е.Г.: Да, в некоторых случаях, текст используется как иероглиф, графический язык.
— Вы учились в Литературном институте, а потом начали работать с камерой. Как вы разрешаете противоречия между словом и изображением?
Е.Г.: Вот есть большая разница: давать интервью или писать текст. Мне всегда казалось, что когда я что-то говорю, то нахожусь на поверхности языка, не могу в него погрузиться полностью — это такая языковая мель. Мне всегда казалось, что интервью — бесполезны, в моем случае по крайней мере, потому что я не умею это делать на достаточном уровне. Наверное, есть люди, которые находятся в другой языковой ситуации и умеют погружаться.
— Слушайте, ну это же разные режимы существования в языке. Необязательно все время находится в глубине, можно в какой-то момент подняться и на поверхность. Нет?
Е.Г.: Да, но это вещи, которые как раз связаны с работой, в частности, с монтажом. Я вообще очень долго работаю с материалом — накапливаю, потом раскладываю на монтажном столе, потом начинаю собирать. Это как раз то, что называю погружением в язык. Я соотношу монтаж, речь и текст, и мне хотелось бы, чтобы все это соответствовало друг другу.
— Находилось на одной глубине, понятно.
Е.Г.: Да. Чтобы было продолжение одного в другом. Мой глубокий скепсис по поводу интервью связан с тем, что не получается так работать с блоками моей собственной речи, как я работаю с видеоблоками в монтаже.
— Вы говорили, что в Оберхаузене увидели свой фильм на большом экране впервые. Это достаточно типичная ситуация для современного автора, который монтирует дома на компьютере. Что-то для вас в фильме поменялось? Вы заметили что-то, чего вы не видели во время монтажа?
Е.Г.: Надо вспомнить. Наверное, нет, кроме того, что [такой масштаб] оказался органичным. Раньше я работал с фотографией, и знаю, что размер очень важен; это часть пластического языка. Когда печатаешь фотографию одного размера, а потом другого, это означает, что ты работаешь с определенными деталями и акцентами. Мой опыт с фотографией дал понимание, как все эти детали и пятна работают: ты добавляешь что-то в кадр, вынимаешь из кадра, меняешь освещение. Насколько освещен фон, насколько он темнее, чем персонаж… Ты чувствуешь эти соотношения, понимаешь, как с ними работать, чтобы это — если необходимо — хорошо смотрелось на больших экранах.
— Понятно, это как репродукции картин: некоторые в уменьшенном виде могут быть прочитаны адекватно, а некоторым необходим реальный масштаб.
Е.Г.: Да. С некоторыми изображениями уже подразумевается такая опция, что они могут быть сильно увеличены, а другие — нет. Некоторым изображениям увеличение размера вредит. Когда выстраиваешь кинокадр, ты работаешь с небольшим монитором и, действительно, привыкаешь к небольшому изображению. И то, что позже, приобретая другие масштабы, фильм смотрится органично — удивляет. Ты понимаешь, что ты заранее имел в виду такую пластику изображения, которая может смотреться органично [на большом экране].
— Кстати, о фотографии. У вас там есть сцена в красной комнате, когда герой печатает фотографии. Фотография — еще один прямоугольник в прямоугольнике экрана.
Е.Г.: Это просто документация процесса.
— Для меня это выглядит как противопоставление дигитального и физического объекта: прямоугольник экрана соседствует с прямоугольником фотобумаги, на которой проступает изображение. И то, и другое — прямоугольник, вписанный в пространство кадра, но вы, возможно, это как намеренное противопоставление не ощущали.
Е.Г.: Да, совершенно не ощущал. Это тоже интуитивная вещь — снять кадр с фотопечатью, с этой несколько подзабытой и уже нераспространенной технологией.
— Изображение, проступающее на бумаге в красной комнате, уже как раз не часть обычного пейзажа — это что-то чрезвычайное.
Е.Г.: Наверное, так это воспринимается. Но я-то хотел снимать самые простые повседневные вещи, в которых не содержится какой-то особенной драматургии, но присутствуют некие следы современности со всеми ее аритмиями и анахронизмами. Внутри моей среды — это обычное явление: несколько моих друзей печатают фотографии аналоговым способом.
— А текст… диалоги, в том числе о политике, это тоже часть пейзажа?
Е.Г.: Это очень двойственный момент. Я даже пытался его решить в фильме без названия [Reenactment]. В этом коротком фильме героиня, вроде бы помещенная в некую заданную ситуацию, произносит на камеру текст, но что это за текст? Был ли он написан заранее или мы видим момент между съемками, когда актриса произносит собственный, неожиданный монолог, как бы упрекая режиссера? Это импровизация? Короче, что это за эпизод, как нам понимать его?
— Да, там даже как-то не по себе становится, потому что не понимаешь, от себя ли она говорит или по написанному. Возникает тревожное ощущение.
Е.Г.: В каком-то лондонском издании я видел интерпретацию этого эпизода журналистом. Мне кажется, он что-то прочитал у меня на сайте про эту работу, поговорил со мной, посмотрел ее и сделал свой вывод: что вроде как был некий сценарий, текст которого должна была произносить актриса, но периодически она переставала говорить этот текст и произносила реплики от себя. В итоге, получился микс, в котором есть и фрагменты сценария, и неожиданно прорывающаяся речь, настоящая позиция актера. Так находится ли она в роли? И что значит настоящая позиция актера по отношению к сценарию? Вы спросили про политические речи, которые подчас носят абстрактный характер, но все равно складываются в весьма буквальный комментарий…
— Для меня эти тексты — скорее часть характеристики героев. Это герой, к которому прилагается такой тип социальной рефлексии.
Е.Г.: Важно вот что: я пытался отталкиваться от нашей действительности. Дело в том, что когда вы собираетесь с друзьями, например, в кафе, вы говорите о политике, но, разумеется, совсем не в таких словах. Это другой язык, совершенно иная пластика языка. И часто вы даже не говорите о политике, ведь то, о чем все думают, можно не обсуждать. Это происходит как бы за скобками, это контекст, который все понимают.
— И он прорывается в отдельных репликах, но не проговаривается текстом.
Е.Г.: Это странный режим. И мне хотелось… Когда ставишь себе такую задачу — попытаться восстановить какие-то события, реанимировать их — сталкиваешься с проблемой: как люди сегодня об этом говорят? Как люди говорят про политику сегодня? И понимаешь, что это очень тонкий язык. И в фильме он должен звучать не так, как в действительности. И я пытался найти этому особому языку соответствующую форму в фильме. Поэтому [политические заявления] всегда находят выражение очень короткого манифеста. Когда герой неожиданно говорит, может быть, одну фразу — суперкороткую, но которая звучит как манифест и разъясняет абсолютно всё. Понятно, что герои погружены в определенную ситуацию, и они эту ситуацию таким образом комментируют.
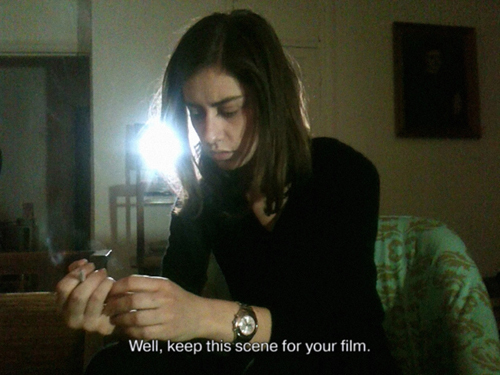
Reenactment. Реж. Евгений Гранильщиков. 2015
— Получается, что внутренний текст произносится вслух.
Е.Г.: Да, происходит неожиданный прорыв. Мне казалось, что зритель не может этого ожидать — что герой сейчас возьмет и вот это скажет. Но герой берет и вдруг говорит. Например, с этим трехминутным Reenactment так и происходит: мы смотрим длинный видеоряд в Unfinished Film и потом слышим вдруг очень буквальный, прямой монолог, а еще позднее понимаем, что он совсем не буквальный, даже наоборот. Это скорее клубок вопросов, очень запутанный. Это вообще большой вопрос, как можно говорить о политике в кино.
— Получается, что Reenactment одновременно комментирует и контекст, и ситуацию, и ваш метод. Девушка и произносит текст, и не хочет его произносить, и хочет сказать что-то другое, но не знает, как. И обнажение метода, и попытка все равно что-то сказать.
Е.Г.: Да. Да.
— В пейзаже, который окружает вашего героя, состоящем из города и экранов, я не заметила никакого влияния массовой культуры. Почему?
Е.Г.: Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под массовой культурой. Это, условно, реклама «Кока-колы» или вообще весь пласт культуры, включая кино?
— «Кока-кола», голливудское кино… Пример. Когда смотришь ролики из ДНР, то понимаешь, что, например, «ополченцы» Гиви и Моторола разговаривают фразами из голливудских фильмов, отождествляют себя с их героями, сравнивают себя с голливудскими актерами и так далее. Это их язык. В ваших фильмах этого языка нет. В этом смысле ваши герои существуют вне поля массовой культуры.
Е.Г.: Да, вы правы. Мне кажется, что она просто меня особо не затрагивает, как ни странно. Вернее, так нельзя сказать. Она же всех затрагивает?! Но может быть, мое зрение уже так настроилось, что я этого меньше вижу. Хотя, вот странно… Вообще мне интересна массовая культура. Думаю, я произвожу просто строгую селекцию. Не работаю с ней буквально. Я не беру речь, куски, цитаты и не помещаю в фильм в не переработанном режиме.
— При этом вы помещаете в не переработанном режиме элементы высокой культуры, цитируете Марину Цветаеву, например.
Е.Г.: Если говорить об этих цитатах — Цветаева, Мандельштам… Когда мы смотрим фильм, видим sms, приходящие на телефон, то понимаем, что они звучат достаточно необычно. Это какой-то другой язык, и мы понимаем, что здесь есть какой-то излом, но нам нужно сделать усилие, чтобы выяснить, какой именно. Для меня эти цитаты еще маркировали исторический момент — 1920–30-х годов. Вообще, никогда не знаешь, почему многие вещи попадают [в фильм]. До этого мы говорили, что текст существует почти как иероглиф — визуально, графически. Он может существовать и как иероглиф… Все, что угодно может попасть в этот видеопоток. Но от чего все это зависит? Как это складывается в целое? Это любопытный момент. Я сам не понимаю, как это происходит.

To Follow Her Advise. Реж. Евгений Гранильщиков. 2015
— Сейчас вы участвуете в одной из параллельных программ ММКФ. Вы себя с русским кино как-то соотносите, имеете к нему отношение?
Е.Г.: Честно говоря, я особо не думал о том, какое отношение я имею к русскому кино. Это вопрос ставит меня в тупик. Наверное, я никогда себя с ним не соотносил. Потому что кино — это не только фильмы, это еще и среда, в которой ты должен находиться. В общем, я не имею никаких контактов, никакого общения с этой средой и мне кажется, что это очень даже хорошо. И что вообще подразумевается под «русским кино»? Входит ли сюда весь советский период или мы говорим про последние два или даже одно десятилетие?
— Понятно, что классика и старое советское кино все равно существует в сознании. Но я вот почему спрашиваю: год назад мы показывали работы студентов МШНК, и Дмитрий Мамулия говорил о том, что наконец появился новый герой — тот, который может быть запечатлен и узнан, а раньше такого героя не было. В нулевые столичные режиссеры снимали кино о каких-то воображаемых гопниках, милиционерах и колхозниках. А сегодня появился он — такой вот хипстер, постхипстер, молодой житель большого города. Он существует, он достоверен, он принадлежит к тому же кругу, что и режиссер. Происходит наконец совпадение автора и героя, и зрителю этот герой тоже понятен. В ваших фильмах я увидела тех же самых людей, что и в работах студентов МШНК. Кто ваши герои?
Е.Г.: То, чем я занимаюсь — очень интуитивный поиск, неуверенная поступь. Разговор тет-а-тет. Когда между мной и моим героем (или моим другом — ведь все люди, которые у меня снимаются, для меня очень близки) нет дистанции. Часто нет даже ощущения присутствия камеры. Я, конечно, не ставил себе задачу «создавать героя»….
— Понятно, что нет искусственного «создания» героя. Есть, появился герой, которого нашла камера… Вы сказали, что не связаны с киносредой. Видимо, вы существуете в арт-среде, где достаточно хорошо известны и получаете премии. Достаточно ли вам этой среды, хотите ли вы куда-то еще двигаться?
Е.Г.: Совершенно недостаточно1. Более того, я последний год очень редко хожу на открытия и тусовки. С одной стороны это связано с личными обстоятельствами, с другой — с потребностью в другой территории. В поиске другой территории. Я говорил о том, что для меня было неожиданно и важно увидеть свой фильм в кинозале. Я понял, что ты можешь оказаться на какой-то соседней территории, и тебя вдруг примут… Ну и потом дело еще и в амбициях художника, который заинтересован в зрителе.
— У вас ведь есть сценарий полнометражного фильма.
Е.Г.: Да есть. Об этом довольно бессмысленно сейчас рассказывать, потому что я еще не приступил к съемкам и не могу сказать, получается ли из этого хоть что-то или это просто писанина. Сейчас это текст, который никак не связан с фильмом. Я не очень чествую любую заданность. Ведь от нас никто ничего не требует, мы не должны вписываться в какие-то сроки и бюджеты. Все эти сценарии, планы, связанны с индустрией, с некоей системой отчетностей, заявок. Все это для меня неприемлемо. Я задавал самому себе вопрос: может, мне вообще не надо двигаться в эту сторону, раз я так ненавижу такие вещи, как сценарий? Но когда начинаешь работать над фильмом, оказываешься с людьми в какой-то съемочной ситуации, понимаешь, что все по-настоящему живет, это невозможно игнорировать. В общем, да, у меня есть сценарий. Или даже не сценарий, а обещание самому себе. Вот неплохо бы снять эту сцену и вот эту бы неплохо. А если не получится, то и хрен с ними, с этими сценами, и надо делать что-то другое. Но я ради процесса все-таки попробую следовать за этим бессодержательным и весьма условным сценарием.
— Как вы, будучи человеком, не интегрированным в кино среду, будете производить полнометражный фильм?
Е.Г.: Все, что мы делаем, очень камерно и подразумевает соответствующее производство. То, что в итоге я бы хотел видеть, не галерейная и музейная история, не видеоарт; это должен быть фильм, законченный, имеющий хронометраж, сюжет, определенную последовательность и драматургическую линию. Все эти вещи там будут, но, думаю, болевые точки проигнорировать все-таки не удастся. В любом случае все будет очень неспокойно, мне кажется.
1 Вот одна из ранних работ Евгения Гранильщикова, в которой обыгрываются штампы художественной среды.
Назад к тексту
Читайте также
-
«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
Маленький взрослый — 32 мультфильма с БФМ’2025







