Кинотавр-2012. Пять вечеров: Светлана Баскова
В создании этого материала принимал участие Анатолий Осмоловский, в 2024 году внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.
Константин Шавловский: Всем добрый вечер, у нас сегодня четвертая встреча в рамках проекта «Пять вечеров», в котором мы обсуждаем фильмы конкурсной программы. Сегодня мы говорим о фильме «За Маркса…» Светланы Басковой. Я сразу же хочу отдать слово Борису Нелепо.
Борис Нелепо: Мне кажется, что мы подошли к главному моменту наших критических встреч, потому что я убежден, что это лучший фильм фестиваля, и думаю, что сейчас мы начнем активно спорить на эту тему. Я не знаю, с чего начать, потому что в приватных беседах мы много спорили о фильме Светланы, и у меня такое чувство, что мы все разными глазами посмотрели разные фильмы. Я вчера специально пошел смотреть фильм Светланы во второй раз — я смотрел его еще в апреле в черновой сборке, он мне адски понравился, и я не хотел на него идти, потому что очень хорошо помню. Решил просто заглянуть на пять минут посмотреть, как это выглядит на большом экране. Я думаю, это совершенно неважный опыт, потому что фильм Светланы — андеграундное кино, снятое за копейки, на свои же собственные деньги вне системы официального производства. И мне казалось, что его хорошо смотреть на проекции в маленьком зале или дома. Все вопросы, которые были при первом просмотре, отпали при втором. Дело в то, что у меня какой-то вечный диссонанс. Вчера мы смотрели фильм Дуни Смирновой «Кококо» — весь зал хохотал, а я просто два часа страдал. Есть еще пара мерзких фильмов, я уже не помню их названий, где все тоже смеются. Я хохотал весь фильм «За Маркса…» при том, что фильм меня дико тронул, и мне все там нравится. Если говорить не о каких-то интерпретациях, а о прямом воздействии, то он на меня как на зрителя подействовал при втором просмотре еще круче, еще лучше, чем в первый раз. И я это могу связать с тем, что Баскова человек, который нашла свою правильную интонацию, выдержала ее от начала и до конца, поэтому у меня никаких вопросов нет.
Константин Шавловский: Рома, может быть, вам есть, что сказать?
Роман Волобуев: Костя, знаете, в фильме «300 спартанцев» показана очень важная тактика, и я ее придерживаюсь: стоим, стоим, стоим, держимся, держимся, держимся, рано, рано, вот вы рано меня толкаете.
Василий Корецкий: Я смотрел фильм тоже два раза с нарастающим удовольствием, общался с Басковой и Осмоловским и поэтому теоретически хорошо подготовлен к дискуссии.
Владимир Лященко: На уровне идеи все нравилось изначально и даже в процессе просмотра мне очень хотелось, чтобы фильм мне понравился. Не столько документальность, сколько то, о чем мы говорили после показа: отстранение как способ изображения этих героев, рабочих, заводских активистов, но проблема была в том, что чисто на уровне органики Пахомов Сергей выбивается, он в игру не попадает. Я в принципе понимал, что это может быть приемом, но, по-моему, это не работает.
Борис Нелепо: То есть ты считаешь, что Пахомов выбивается из органики фильма?
Владимир Лященко: Чудовищно, причем. Из всей органики он почему-то как Епифанцев, как карикатура. Епифанцев тут тоже, в принципе, непонятно, зачем. Я думаю, что здесь есть какая-то ирония в изображении карикатурного олигарха. По фильму, правда, кажется, что автор так себе и представляет заводского владельца. При том, что рабочие вроде как похожи на рабочих, а заводской владелец, если честно, не похож на владельца 2010-х.
Борис Нелепо: Давайте про Пахомова поговорим, потому что это дико интересно. Мне кажется, что он не только не выбивается. О чем, вообще говоря, это кино? Не о том, что это такая левая агитка и манифест, это уже следует потом. А что лежит в основе фильма? Это фильм об очень простых вещах, о чувстве собственного достоинства, о справедливости. Пахомов — такой архетипический русский герой, святой Винни-пух, герой Сытого из «Сумасшедшей помощи». Мы видим его вначале — это такой увалень, дико обаятельный, дико харизматичный, который сначала с дядей Колей обсуждает зубров. Потом с Пахомовым происходит трансформация, что дико трогательно сделано. Потому что на самом деле в середине фильма его герой умирает, это фильм о жизни после смерти. Он умирает, когда теряет чувство собственного достоинства, когда символические банки с вареньем разбиваются. Он до этого очень много говорит со знакомой по предыдущему фильму Басковой мимикой, артикуляцией, жестикуляцией. Потом из него просто выкачивают воздух, он весь съеживается, ничего не может произнести, потом Светлана подчеркивает, как он совсем буквально падает в могилу, и эта метаморфоза дико крутая.
Константин Шавловский: А тебе не кажется, что этот прием с банками с вареньем и падением в могилу — слишком прямые вещи?
Борис Нелепо: Нет.

За Маркса… Реж. Светлана Баскова, 2012
Роман Волобуев: Мы находимся в очень важной точке, когда все закончилось, изобразительного искусства не осталось. В тот момент, когда изобразительное искусство перешло от разговора с богом к разговору с концептами, и когда стало можно бросать тампоны в чашку и говорить, что это современный объект. И когда критическое осмысление предмета стало важнее, чем сам предмет, оно превратилась в то, во что превратилась, в такой красивый рынок, где люди торгуют прекрасными фантомами. Кино осталось одной из важных областей, исключительно потому, что это массовый продаваемый или не продаваемый продукт, где баланс формы, содержания и трактовки чудовищно важен. И этот фильм — очередная попытка это перепрыгнуть во что-то более настоящее. И ужас-ужас-ужас того, что сейчас происходит, в том, что мы можем долго это обсуждать, что там такая метафора, такая метафора, такая метафора. Ребята, мы вчера сидели и обсуждали очень спорный фильм Сигарева, и обсуждали совершенно на другом уровне. Мы спорили с Мишей Ратгаузом, как по-разному играют одни актеры или другие. Ребята, вы не видите, что в фильме Басковой актеры вообще не играют, вы не видите, что в этом фильме выходит человек и говорит: «Знаете, мужики, у нас на заводе организовали профсоюз». Дальше идет набор реплик, и явно видно, что человек, писавший их, их не перечитывал. Я с удивлением обнаружил, что Светлана сняла документальный фильм про протестное движение «Одно решение — сопротивление», и она, видимо, в материале. Если меня отключить от интернета, чтобы я ничего не мог погуглить и сказать придумать сейчас, как ты представляешь рабочих, заводских владельцев и так далее, да еще отрезать мне полголовы, чтобы лишить какого-то опыта, когда я работал репортером и ездил, видел заводских начальников, вот я так это и расскажу. И я просто не очень понимаю, почему мы применяем разные стандарты для разговора о разных вещах. Мы можем кого-то бить за плакатность, кому-то говорить, что недостаточно тонко играют актеры, а здесь мы этот вопрос закрываем и говорим, что вот и все. Мне кажется, что это единственное, что спасает кино, потому что оно может быть разным и с разными задачами, но его невозможно смотреть, если в нем отсутствует компонент проката. Когда кино сделано до определенной степени плохо, не в идейном плане, не в плане концептуальном, а просто на достаточном уровне плохо, его можно просто перестать обсуждать. Мне кажется, что мы находимся в той точке, как когда окажешься перед стеной, а тебе со стены говорят: «Да нет, нам наши кирпичи нравятся». И я, если честно, нахожусь в растерянности. Я вчера чудовищно сердился на ту половину стола, когда они по поводу фильма Сигарева сказали, что им совершенно нечего по поводу этого фильма сказать. Черт возьми, ребята, вы критики, это ваша работа. А я сейчас нахожусь, простите за высокомерие, ровно в том же положении, в котором вы были вчера.
Борис Нелепо: Рома, ну, может, это потому, что вы ушли на тридцатой минуте…
Роман Волобуев: Я честно скажу, что с фильма Басковой ушел на тридцатой минуте, потому что всему есть предел. И я в недоумении, мне правда нечего сказать.
Светлана Баскова: Ну что вы за чушь несете. Не смотрели фильм, выглядите не очень свежо, пахнет от вас тоже как-то не фонтан, сходите поспите.
Роман Волобуев: Мне кажется, мы пришли к тому, к чему все время стремились — эти прийти к настоящему. Потому что это чудовищно неправильно, когда все изображают паинек.
Константин Шавловский: Я продолжу ваше выступление, Рома. Я большой поклонник фильма, я досидел до последних титров. И я большой поклонник картин Басковой, но здесь испытал огромное разочарование, и связано это с попыткой вытащить это кино. Для меня это как Хлебникову или Хомерики сказать, давай, снимай Сталинград в 3D.
Андрей Сильвестров: Я счастлив, что Роман сказал то, что он сказал, потому что в этом чувствуется абсолютная зашоренность взгляда кинокритика. Роман прекрасно эксплуатировал это в последнее время. На этот фильм надо смотреть свежо, этот фильм — просто новый шаг на то, как люди друг с другом разговаривают, это свежая поэтика. Она новая. Так люди друг с другом не разговаривали.
Роман Волобуев: Это вы говорите неправду, потому что люди так в кино совершенно точно разговаривали между собой, я могу вам даже точно сказать, где.
Андрей Сильвестров: Роман, все, что вы будете говорить, будет неправильно изначально, потому что ваш взгляд зашоренный.
Роман Волобуев: «Ералаш» видели когда-нибудь?
Андрей Сильвестров: Вы «Ералаш» кинокритики. Прекрасный, лучший.
Роман Волобуев: Я чудовищно зашоренный, я очень люблю, когда кино хорошо сделано. Когда кино сделано плохо, мое зашоренное сознание запрещает мне его смотреть.
Андрей Сильвестров: Речь идет о том, что предложенная форма не существовала. Посмотрите с другой стороны.
Константин Шавловский: Андрей, ты сейчас, по-моему, говоришь о тампоне, который бросают в чашку и предлагают концепты.
Андрей Сильвестров: Это примитивно.
Камила Мамадназарбекова: Я сейчас не согласна с тем, что Роман Олегович — это «Ералаш», это неправда. Я позволю не согласиться в вопросе тампона, который бросают в чашку. Дело в том, что две вещи, которые мне больше всего понравилась в фильме — то, что левое искусство пытается выйти из своего кокона и быть по-настоящему демократичным, чтобы каждый зритель в зале понимал эту схему. Не сопереживал герою, а понял конструкцию, где плохие, а где хорошие. Это странно и здорово.
Роман Волобуев: Вам кажется, что это только сейчас произошло? Захар Прилепин уже сколько пишет? Вот это левое искусство.
Камила Мамадназарбекова: Нет, мне кажется, что здесь это работает. Это кино, которое само себя объясняет, что в этих очаровательных диалогах про Белинского и Гоголя рабочие объясняют метод, которым сделан этот фильм, они рассказывают и про Брехта, и про противопоставление Голливуду.
Светлана Баскова: Левый человек должен самого беззащитного защищать, и мне сейчас с этой точки зрения хочется защитить Романа.
Роман Волобуев: Я гораздо левее вас.
Светлана Баскова: А я нисколько не сомневаюсь в этом, просто мне, как левому человеку, видно, что вы сейчас в самой слабой позиции.
Роман Волобуев: Вы же представитель радикального параллельному кино движения. Более буржуазной штуки в мире себе представить невозможно. Приключения радикального левого искусства в том виде, в котором оно существует сейчас — не когда люди выходят на площади, и их потом бьют, и не когда они сидят в подвалах, а когда они снимают кино на пленку и его показывают в залах. Оно может существовать в только очень буржуазном обществе и в только постиндустриальном, потому что в принципе постиндустриальное общество позволяет любые причуды, потому что оно довольно сильное, жирное и не боится, что его сломают. Поэтому, если начинать уж с левого, то все снести надо, начиная с фестиваля «Кинотавр», чтобы негде было бы это показывать. Не притворяйтесь левым, Светлана, вы не левый.
Светлана Баскова: Я не притворяюсь левым, я думаю, что, если бы я была левым, давайте так скажем, если вас что-то раздражает, то я хотела бы вас защитить, потому что левые обычно защищают самых слабых. Я это почувствовала, потому что это у меня есть, видимо, где-то в глубине души.
Василий Корецкий: Рома, а что, по-вашему, быть левым?
Роман Волобуев: Я сейчас думаю, что сказать, чтобы это глупо не звучало, потому что все базовые определения звучат очень скучно. Чудовищно без компьютера неудобно.
Анатолий Осмоловский: Давайте я вам помогу, это просто очень. Что такое левый в западно-европейском смысле, и что такое левый в историческом смысле? Я могу вам в трех словах объяснить.
Роман Волобуев: Давайте сейчас чуть-чуть еще подумаю.
Анатолий Осмоловский: Ну ладно, давайте не буду объяснять. Ценности левого движения и левого мышления описываются несколькими словами: это сцайентист — человек, который верит в науку, это прогрессист — человек, который верит в прогресс, в том числе и моральный, это антифашист, это атеист, и еще социалист.
Роман Волобуев: То, что вы сейчас описываете — это ценности западного либерализма, который стал чудовищно правым.
Анатолий Осмоловский: Нет, это ценности не правого либерализма. Правый либералист за религию, он не атеист. Правый либералист это Буш. Поэтому атеизм есть одна из базовых ценностей левого мышления, начиналось все с Просвещения. И еще важный момент — различные отношения к собственности. Ультралевые говорят, что собственность должна быть вся общественная, социал-демократы дают возможность быть средней собственности или налоги повышают, и так далее. Очень все просто.
Константин Шавловский: Спасибо за комментарий, а какое это имеет отношение к кинематографу?
Василий Корецкий: Вы рассуждаете, Костя, так, будто мы сидим и обсуждаем произведения современного искусства. Какое отношение это имеет к произведению современного искусства? Если это вывесят в музее современного искусства, значит, это произведение современного искусства, если это снять на пленку и показать в кинотеатре, значит, это кинематограф. Если он не удовлетворяет потребительским требования меня, Романа или вас, это не делает эту вещь не кинематографом. Есть разные оптики, мы сейчас обсуждаем, хуевый фильм или хороший, хорошо он снят или плохо. Претензии о качестве съемки, насколько это консьюмеристски.
Константин Шавловский: Претензии к качеству съемки — боже упаси. Фильм, снятый за $3 000 я считаю просто прекрасным. Как потом это копеечное как бы кино перешло в большое кино, в «Шапито-шоу» — большая удача российского кинематографа.
Василий Корецкий: Я слышал упреки, что актеры играют не так, и хочу предупредить наезды на то, что что-то снято недостаточно конвенционально и недостаточно проработано — фильм смотреть тяжело. Естественно, я не считаю фильм плохим. Он сложен для восприятия, потому что не играет на эмоциях зрителя, не оставляет после себя никаких эмоций кроме знания, что существует вот такая схема, существует вот такое законодательство и существуют такие проблемы.
У меня есть претензия к фильму — авторы утверждают, что снимают мейнстрим. Мне этот фильм не кажется мейнстримом в силу того, что он снят с применением годаровского или брехтовского отстранения, и в этом парадокс левого искусства, в отказе играть на эмоциях и на аффектах зрителя и идти эйзенштейновским путем. Фильм часто в сценографии копирует фильм Эйзенштейна, который, как известно, был снят как листовка, предполагалось, что этот фильм будет показан в разных странах, и он будет инструктировать людей. Это должен был быть цикл фильмов о том, как организовывать стачку, ячейку, восстание, революцию. И я воспринимаю его именно так, там есть более глубокие политические нюансы, но это некая прокламация, которая не обязана быть витиеватой, не обязана быть написанной высоколитературным языком. Я писал листовки. Поверьте, чем более простым и доступным языком написан агитматериал, тем сильнее их воздействие. И часто качество подобной продукции, которое кажется низким, является результатом очень тщательного и трезвого расчета.
Константин Шавловский: Представьте, что у нас был бы фестиваль кинокритических текстов, и среди них затесался бы пресс-релиз. И мы бы обсуждали, что он же работает как пресс-релиз, он доносит максимально ясно информацию.
Василий Корецкий: Мне кажется, это неудачный пример, потому что все-таки доносить информацию и критику это немного разные вещи.
Константин Шавловский: Кинематограф и информация — довольно разные вещи.
Василий Корецкий: А вот обучающие фильмы, научно-популярные, являются кинематографом или нет? Поточная продукция студии научно-популярных фильмов является кинематографом или нет?
Константин Шавловский: Вы меня поставили в тупик. А фотографии, сделанные через Instagram, которые мы все на Facebook вешаем, являются искусством или нет?
Анатолий Осмоловский: Мне кажется, у Константина неверный вектор. Или, может быть, верный вполне. Хотя, может быть, в кинематографе это принято, но я из другой среды, у нас противоположный вектор. Наоборот, в изобразительном искусстве, чем более не похоже произведение на тот или иной жанр, тем лучше. Потому что современнее искусство строится по принципу охвата различных областей и выхода за рамки, а вы требуете, чтобы это кино было как кино. Эта ориентация — традиционалистская, каноническая. Мне кажется, что она может иметь место быть, но может быть и другая.
Константин Шавловский: Я говорю не о жанре, а о виде искусства.
Анатолий Осмоловский: И виды можно менять, и от видов можно уходить, можно уходить и в научно-популярное кино и во что угодно. Мне кажется, этот фильм можно обсуждать и во вполне традиционных аспектах, не вижу здесь никакой проблемы.
Михаил Ратгауз: Я хотел, Анатолий, вам сказать, что, если мы сейчас говорим о том, что это такая новая вещь, которая является вещью в себя. И что она такая новая, что мы даже не можем ее понять — то мы можем, по большому счету, в общем-то, разойтись, потому что это классическая очень узнаваемая подмена, когда концепт полностью закрывает вопрос о качестве. Если вы в конце сказали, что мы можем говорить об этом фильме в категории кино, то у меня вопрос, ведь это же фильм, который не является эстетической прокламацией, потому что меняет свою эстетику в середине очень резко, а потом он меняет ее еще раз. И меняет он ее, последовательно отклоняясь от этого брехтовского, годаровского приема, который я бы обсуждал в категориях качества, потому что у Годара это исполнено гораздо более изящно. И переходит к каким-то вещам, которые находятся в другой совершенно системе координат. К той же психологической игре, потому что Пахом начинает ровно со сцены убийства его товарища очень крупным, огромным планом, совершенно в другой эстетике снятым, страдать. А потом появляется еще третья эстетика, когда происходит разговор в машине двух злодеев, где мы имеем дело с эстетикой, уже ориентирующейся на Голливуд. Тогда вопрос — где здесь прокламация, в чем верность приему, и как это все объяснить?
Светлана Баскова: Я не знаю, насколько вы правильно поняли, причем тут Годар и Брехт, насколько вы правильно вы считали присутствие здесь этой темы. Наверное, вы считали это слишком традиционно для вашего внутреннего разговора. Для вас Годар это, наверное, элитное кино, который не каждый может понять.
Михаил Ратгауз: Отнюдь.
Светлана Баскова: Вряд ли рабочий может понять Годара.
Михаил Ратгауз: Я немного знаю про историю кино и про годаровские эксперименты как раз ровно в конце шестидесятых-начале семидесятых годов, и про Медведкина и про все остальное. Нет, мне так не кажется.
Светлана Баскова: Безусловно, вы это все знаете и, безусловно, многие люди этого не знают. И вы, наверное, очень привязаны к этим своим знаниям и пытаетесь фильм понять как некий прием, что здесь есть какие-то коды, вы пытаетесь их расшифровать. Но здесь нет ни одного кода.
Михаил Ратгауз: Но это как раз та точка зрения, которую предложил Анатолий в первой части последней реплики, что это просто такая вещь без кодов. Что это значит? Что у нас к ней доступа нет, потому что мы все общаемся кодами, мы все понимаем коды. Если здесь нет кодов, о чем мы вообще говорим?
Анатолий Осмоловский: Я могу сказать. Во-первых, мне кажется, что ваше допущение, что, если мы сталкиваемся с непонятным объектом, то нужно расходиться, очень реакционное. Прежде всего современное искусство создает объект, который подвешивает ваше сознание. Вы можете заметить, что за последние 20 лет ни один современный художник не присутствует в медиапространстве. Ни один. В том смысле, что у него не берут интервью, не спрашивают ничего и так далее. Это у нас, в России, такая существует традиция, которая чревата большими политическими последствиями. Поэтому, если вы видите объект, который не понимаете, который действительно может работать без кодов или с какими-то другими кодами, расходиться ровным счетом не надо, а надо собираться.
Михаил Ратгауз: Собираться, и что делать дальше?
Анатолий Осмоловский: И выяснять, что это за коды.
Михаил Ратгауз: Их нет.
Анатолий Осмоловский: Почему? Что это за вещь без кодов, и может ли вещь быть без кодов вообще? Здесь как раз разговор и начинается. А если вы хотите выяснить, насколько этот фильм соответствует той или иной традиции, насколько он идет в русле Годара, а если он от русла отклоняется вправо или влево, то про этот объект не надо говорить, то ничего никогда нового не будет.
Михаил Ратгауз: Это ровно та самая подмена, о которой я и говорил. Вы выбиваете у меня сейчас как у вашего оппонента в этой дискуссии табуретку испод ног. Вы говорите, что это такая вещь, которую я могу прировнять только к чему-то старому, поэтому я всегда заблуждаюсь. Что вы имеете в виду? Сейчас мы будем говорить о вещи без кодов. На каком языке мы будем про нее разговаривать, и что мы будем говорить?
Анатолий Осмоловский: Давайте попробуем. Во-первых, я не думаю, что вы заблуждаетесь. Я думаю, что вы довольно умный и любознательный человек. Мы можем поработать. А что касается табуретки — я испод вас ее не выбиваю, а, наоборот, подставляю. Что касается кодов — они здесь есть. Вы правы, что существуют разные коды, но они ведь действуют на разную аудиторию по-разному. Например, мы могли наблюдать, как люди, смотревшие этот фильм, смотрели дебаты рабочих, и все смеялись. Все считали, что это стеб. Ха-ха-ха. На самом деле это не стеб. На самом деле рабочие так и разговаривают. Действительно, есть киноклубы при заводе. Я же говорил на пресс-конференции, что в 1989 году я работал на заводе слесарем, и в 1989 году, если вы знаете и помните, вышел Борхес. Мы с моим наставником слесарем обсуждали Борхеса, и от него я впервые услышал слово постмодернист. Это был рабочий слесарь, шестого разряда.
Михаил Ратгауз: Мне кажется, что мы сейчас можем от этого дискурса немного отойти. Если я правильно понимаю, это фильм акционистский. У этого фильма есть прагматика? Он что-то должен производить? Должен быть показан каким-то людям, должен объяснять, как устроены независимые профсоюзы? У него есть такая цель?
Светлана Баскова: Да, безусловно, есть.
Михаил Ратгауз: Эта цель как-то влияла на эстетику фильма?
Светлана Баскова: Эстетика не берется откуда-то, она связана с личным опытом. Естественно, когда ты что-то изучаешь, где-то бываешь, смотришь те же произведения искусства и анализируешь те же тампоны в чае, то как-то немного по-другому к ним относишься, чем все здесь. Сейчас мы открыли школу современного искусства и пытаемся заполнить эти ниши, которые у нас есть в образовании в смысле теории и практики современного искусства. И, конечно, очень большая проблема среди молодых людей, что они не знают историю искусства XX века. Философы не хотят изучать и вообще думать, что такое искусство, и, в частности, XX века. Кинолюди тоже не хотят к изобразительному искусству прикасаться. Когда с философами говоришь о Делезе и высказываешь свою точку зрения, они считают, что с тобой не о чем говорить, потому что это их привилегия. Поэтому хочется наладить некий язык и контакт с вами. Вы взрослые люди, молодые, у вас есть амбиции, и это очень здорово. Амбиции протеста против того, что всем нравится, а мне не нравится, нужно всячески поддерживать. Опыт влияет на эстетику, безусловно. Я хожу в музеи с 12 лет, это мой опыт, который формирует мою эстетическую story. Опыт исследовательский тоже относится к языку фильма, о котором мы говорим. Потому что, когда ты погружаешься, ходишь, смотришь вместе с этими людьми, безусловно, ты что-то другое чувствуешь, видишь и впитываешь, но не головой.
Михаил Ратгауз: Вопрос был в другом. Этот фильм делался, чтобы потом показывать его на заводах в том числе?
Светлана Баскова: Условно. На заводе никогда не покажут этот фильм, и в самом фильме об этом говорится. Это невозможно, никто не разрешит. И даже в моногородах администрация никогда не позволит показать такой фильм.
Михаил Ратгауз: Тогда я ничего не понимаю вообще. Если вы хотите инструктировать людей, как себя вести, что есть закон, который позволяет создавать независимые профсоюзы, там все это подробно объяснено.
Анатолий Осмоловский: Эта цель есть, потому что вы в самом начале видели в этом фильме заставку, что есть закон о профсоюзах, и там черным по белому или белым по черному написано. Конечно, есть функциональная задача, именно эта. Но этой задачей фильм абсолютно не исчерпывается. Ваш разбор эстетический относительно того, что меняются эстетики, мне представляется довольно сомнительным. Что такое интонации Голливуда? Я не знаю. Я знаю, что в Голливуде есть жанры. Как можно интонацию внести, сидя в машине и похлопывая по лысой голове, я с этим не вполне согласен.
Михаил Ратгауз: В кино интонация это мизансцена, это свет, это режиссура, инсценировка, это актерская игра. Интонация, может, дурацкое слово, но это есть стиль. Вот этот стиль становится другим в какой-то момент, причем становится другим дважды.
Анатолий Осмоловский: Ну не так радикально. Ну да, может, здесь есть зазоры, шероховатости, я могу с этим согласиться. Но я бы не сказал, что это так уж бьется в глаза. Например, нога, спускающаяся из автомобиля, если была бы показана крупным планом — любимый кадр голливудских режиссеров, тогда да. Можно было бы говорить, что возникает стиль клипов или голливудского кино. Ноги не было. Была достаточно мутноватая сцена.
Борис Нелепо: По поводу голливудского кино не очень понимаю, что Миша имеет в виду.
Михаил Ратгауз: Есть сцена, которая снята как классический криминальный триллер. Два преступника сидят в машине, друг другу угрожают, они определенным образом одеты и освещены. В заднем стекле мелькает тревожный городской свет. Эта абсолютно узнаваемая сцена совершенно представима в фильме «Антикиллер».
Борис Нелепо: По поводу первого изменения эстетики я с тобой согласен, потому что мы вместе с тобой нащупали, когда это происходит.
Михаил Ратгауз: Окей, если мы имеем дело с вещью в себе, то там, конечно, может происходить все, что угодно. Но пока кроме той напряженной работы, которую обещает Анатолий по поводу этого нового неопознанного летающего объекта, никаких доступов к вещи без кодов не вижу. А если про это можно говорить как про кино, то почему Пахом вдруг становится персонажем перверсивно окрашенного фильма Сигарева? Страдающий, измученный нравственный мукой, опустошенный герой. Что он тут делает?
Анатолий Осмоловский: Слушайте. С самого начала образ встраивался человека, который не знает, что делать. Варенье не знает — бабушке отсылать или самому есть. У него с этой банкой проблема.
Михаил Ратгауз: То есть вы хотите сказать, что это последовательно простроенный характер?
Анатолий Осмоловский: Конечно, абсолютно. Это человек абсолютно сомневающийся, который взял на себя ту проблему, которую он изначально не мог решить. Это простроенный до миллиметра характер советского человека, который был воспитан в советской патерналистской системе, который не знает, что ему делать, который постоянно сомневается, который предает, и у него в голове что-то после этого включается. Он бежит резать этого бандита. Это постоянно меняющийся человек, у которого нету стержня. Вы посмотрите, там подробно показано, как он даже на митинге постоянно меняет свои решения. То же самое можно сказать про всех героев этого фильма. Про марксиста. Почему марксист такой? Потому что у него дедушка был КГБист, который его в социалистической идеологии воспитывал. Если вы будете это рассматривать внимательно, по-моему здесь все очевидно. Что касается перепадов эстетических — может быть, они и есть, но это не такие…
Светлана Баскова: Там было два эстетических перепада, совсем других — в одной эстетике снимали владельцев завода, и — в другой — рабочих.
Михаил Ратгауз: Это меня совершенно не смущает, потому что это заданные правила, и они сохраняются, причем до конца. Вся сцена похорон — большая, подробная, вся снята как такой перверсивный Сигарев, непонятно, с чего.
Светлана Баскова: Объясните про Сигарева.
Михаил Ратгауз: Как тяжелое, насыщенное психологией и экзистенциальной драмой кино о русской провинции и о тяжелом душевном мире, который ее сопровождает.
Светлана Баскова: Наверное, у вас такое впечатление. Но вы зритель и глупо мне, режиссеру, спорить со зрителем. Я могу сказать, что я в это вкладывала. Сергей Пахомов — человек, с которым я работаю всю жизнь и человек, которого я очень хорошо чувствую, который чувствует меня, и с которым мы можем в принципе вообще не говорить. Я говорила, что мадам Бовари — это я. Это я лично. И этот герой — это я, я все свое переживание, все свое отношение, какая я на самом деле, я могу сказать, что эта роль — это абсолютно я, и для меня это абсолютно органично, этот перепад и это состояние. Вам, как зрителю, конечно, это виднее. Но для меня этот герой абсолютно пройден через кишки, горло и глаза.
Михаил Ратгауз: Вы знаете, мне кажется, я понял, что с этим фильмом не так. Вы сказали два раза сегодня, Светлана, что как левый человек должны сейчас испытывать сочувствие к самому слабому. Потом вы себя остановили и сказали, что зря совершенно ополчились. И так далее. Мне кажется, что это очень узнаваемый механизм, когда концепция и представление о том, что должно быть, которая на самом деле является единственной движущей силой того, что производится, и которая поэтому подминает под себя какие-то живые вещи и концептуальные задачи, например, «я, как левый человек, должна». Как левый фильм, он тоже много чего должен. И поэтому, к сожалению, ковыляет не самым приглядным образом, по-моему.
Анатолий Осмоловский: Почему ковыляет?
Светлана Баскова: Толя, человек в данном случае говорит как зритель, и я в принципе его понимаю, потому что «левый» — достаточно болезненное слово в нашем обществе, и, я знаю, среди современного искусства и современных критиков эта тема тоже очень болезненна. Они говорят: «Мы социалисты, мы не хотим произносить слово «левое»». Потому что левое слово уже боятся произносить. Конечно, я тоже не совсем понимаю, как можно быть честно левым — это очень большая ответственность, это громадная ответственность, выбор, который не каждый может сделать. Чтобы это сказать, нужно иметь мужество. Конечно, я не могу сказать, что целиком готова пойти на те поступки, на которые готов пойти реально левый человек.
Анатолий Осмоловский: Да я не понимаю, в чем ковыляет фильм. Вот вы сказали про то, что там якобы существует две кардинальные эстетики, это одна претензия. Но это ваше субъективное мнение, мое субъективное мнение в том, что это не ковыляние, а изящное прихрамывание. Соответственно, в чем еще ковыляние? В том, что рабочие так не разговаривают? Что это за мнение? Да нормально там все разговаривают, они так и разговаривают. Вот мы сейчас все друг друга поучаем, вот и он там поучал молодого парня: «Ты чего, вообще? Книжек не читаешь».
Константин Шавловский: Мы, Анатолий, в несколько искусственной ситуации находимся — у нас круглый стол и микрофон. Если бы мы сидели на пляже, то все-таки, наверное, чуть- чуть разговаривали.
Анатолий Осмоловский: У нас, по крайней мере, нормально так с одного на другое перескакивают люди, с Ивана Грозного на чего угодно. Разговаривают нормальным языком. Где фильм хромает? Я вот знаю, где фильм хромает, но никто об этом не сказал.
Михаил Ратгауз: Я коротко скажу, что имел в виду. Есть такое немецкой слово gewolt, я не знаю, как по-русски, потому что по-русски толком не переведешь. Gewolt — это когда мы ясно видим в какой-то ткани произведения, что автор туда намеренно, специально вталкивает. Gewolt — это именно «я очень хочу что-то рассказать, и, вне зависимости от сопротивления материала, от того, что это не вписывается куда-то, от какой-то логики, я этого говорю, потому что я хочу это сказать». Мне кажется, этот фильм — весь gewolt.
Светлана Баскова: Тоже интересное мнение.
Анатолий Осмоловский: Я с этим мог бы согласиться, хорошая формулировка. Подразумевалось, что фильм попадет в чрезвычайно враждебную среду, имею в виду не здесь, а наш общеполитический консенсус, который, как известно, построен на тотальном антисоветизме и антимарксизме. Значит, этот фильм попадает в абсолютно негативный контекст, при этом он, в силу своей серьезности и в силу грузилова, которое в этом фильме присутствует, может быть воспринят как чрезвычайное умствование или стеб. Абсолютно да. Поэтому фильм — то самое НЛО, о котором вы говорили. Я в интервью говорил, что одним этим фильмом ситуацию не поменять культурную. На тему прямо заявленную политическую должно быть пять, десять фильмов, какие-то режиссеры должны появиться, или они не появятся. Или сегодня, например, был круглый стол с относительно смешной формулировкой «Почему не смотрят русские фильмы». Я вклинился в разговор и антиклерикальный спич произнес, всем понравилось. Когда в Москве строят 200 храмов — это наши конкуренты. 200 построенных храмов — это 350 не построенных кинотеатров. Явно совершенно, что, вместо того, чтобы построить музей современного искусства, наша власть построила храм Христа Спасителя. Куда, собственно, и должны были Pussy Riot войти, потому что это и для них было место предназначено, еще в начале девяностых. Если продолжить мысли, которые меня обуревали при ответе на вопрос, почему русские не ходят смотреть российские фильмы, это будет иметь отношение к фильму «За Маркса…» тоже. Мне представляется, что российская аудитория — садомазохистская, воспитано это очень давно, скорее всего, это очень плохо. Потому что садомазохизм связан с инфантилизмом некоторым. Потому что продюсеры, которые там сидят, никак не могут выдумать, что же надо хорошего такого российскому зрителю, чтобы ему понравилось, сделать. Вот мы делаем все усилия, чтобы им понравилось, а они не ходят. Чтобы все пошли, нужно сделать фильм, чтобы всем не понравилось.
Василий Корецкий: Мне кажется, что вся дискуссия, которая сейчас ведется вокруг этого фильма, связана с проблематикой прямого высказывания и формы, которое оно может принять. Говорили, что это грузилово, это лозунг, а применимы ли все эти конвенции к зрителю, когда мы хотим до него что-то донести, зафигачить ему в голову? На обсуждении фильмов Дуни Смирновой на круглом столе OpenSpace обсуждающие разделились на две группы: одни говорили, что это социальное высказывание, социальный памфлет, а другая часть говорила, что все точки, которые трактуются как отражение сегодняшнего дня, являются отражением жанровой конвенции, потому что здесь, здесь, здесь и здесь должны происходить определенные вещи. И именно поэтому сюжет развивается таким образом, а не иным. Когда мы пытаемся что-то сказать четко и ясно в кино, мы всегда идем по краю, потому что месседж может быть воспринят как форма, и именно из-за борьбы содержания с формой происходят шероховатости, неудобоваримости и непонимания.
Борис Нелепо: Мне кажется, мы очень много сейчас говорим про идеи, но если говорить о том, что в этом фильме по-настоящему левое, о том, что является базовым фундаментом, способным объединить всех людей вне зависимости от их идеологии — это то, с каким уважением в этом фильме сняты все герои. Потому что для меня большим удовольствием было бы смотреть фильм не только из-за сюжета, не только из-за Пахома, не только из-за красивейших съемок этого завода, что тоже, мне кажется, важно, потому что последнее время в эту территорию русское кино не доходило — оно предпочитает показывать ужасную провинцию. То есть это вообще подлинно демократический фильм, и он начинается с мизансцены, когда мы смотрим на этот автобус, оказываемся в этом автобусе и буквально едем с этими героями, насколько они все проработаны. С каким уважением, с какой эмпатией, с каким чувством. Когда я в самом начале говорил, что это фильм про чувство собственного достоинства, я продолжаю на этом настаивать, потому что сама форма фильма, которую многие пытаются пнуть, дико органична. Если говорить об игре актеров, то мне кажется, что вы все стали заложниками одной актерской игры и, собственно, об этом тоже идет в фильме речь. И здесь не то, что бы соблюдается какая-то одна школа. Здесь Светлана ведет в какой-то своей манере актерскую игру своих актеров. У меня к этому вообще нет никаких претензий. И та органика, которая есть в этом фильме, та интонация, которая соблюдается от начала и до конца — да, конечно, в этом фильме нет вампиров или красиво снятых планов. И не то, что актеры плохо играют — они просто играют иначе.
Анатолий Осмоловский: Проблема заключается в том, что нужно делать фильмы, которые бы людям не нравились. Если этим людям эти фильмы будут не нравиться, то они попрут в кинотеатр. Поэтому этот фильм задумывался как фильм, который никому не понравится. Поэтому это огромные разговоры, философия какая-то, какие-то отсылки к Белинскому. У старшего поколения просто рвотный рефлекс на Белинского. А ведь, на самом деле Белинский умные вещи говорил, и там хорошая цитата приводится, очень актуальная для нашего момента. Рабочая эстетика, завод, это же все отвратительно для нашего поколения. В фильме премия, и все нижеподписавшиеся, это все блевота советская, понимаете. Лунгин через 15 минут выбежал с этого фильма. Я удивлен, зачем он вообще пошел на фильм с названием «За Маркса…». Может, он там думал шутки а-ля Светлаков услышать. Он вдруг понял, что там будет производственная драма, он убежал с ужасом. Так вот, этот фильм строился с расчетом, что он никому не понравится.
Константин Шавловский: Знаете, Лунгин все-таки снял гениальный фильм, в том числе «Такси-блюз», не надо так, пожалуйста, про него говорить.
Анатолий Осмоловский: Что я сказал такого про Лунгина чудовищного? Во-первых, я его не считаю гениальным режиссером, я его считаю конформистом. Во-вторых, «Такси-блюз» средненький фильм, извините. А я ничего про Лунгина плохого не сказал. Вышел и убежал, ну и что.
Михаил Ратгауз: Вывод совершенно другой из вашей реплики. Вывод такой, что за этим столом есть два лишних человека — это Василий Корецкий и Борис Нелепо, которым фильм очень нравится.
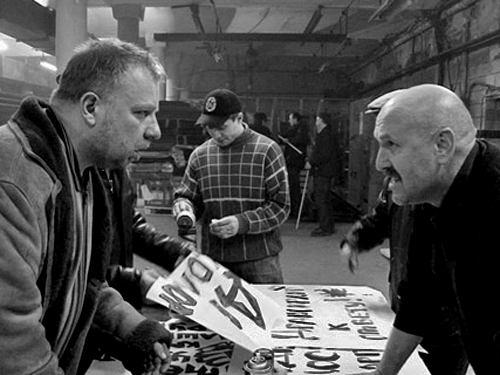
За Маркса… Реж. Светлана Баскова, 2012
Роман Волобуев: Последние 30 минут я мучительно думаю, что такое левая идея. И, полагаю, что буду думать об этом еще месяца два. Я почему залип? Не потому, что я идиот, хотя это тоже. А потому, что азбучное определение левого движения сейчас совершенно не работает. Меня абсолютно переклинило, когда начали говорить про антиклерикализм, учитывая, что половина американского левого движения сейчас буддисты. И я реально начал думать, почему мы левые, почему я левый, и так далее, и так далее, и так далее. Никогда нельзя играть одновременно в шашки и шахматы, чем мы сейчас и занимаемся. За это время мы услышали три версии объяснения этого фильма. Во-первых, это летающая тарелка, и у вас нет инструментария. Любые ваши инструменты будут ломаться об нее и не подходить просто потому, что вы зашоренный, и ваш инструментарий не такой. Второе — что это кино прямого действия. Третье — что это кино было сделано с единственной целью, чтобы всех дико выбесить, чтобы вы на него пошли. По этим всем трем историям очень легко пройтись. Штука-то в том, что инструментарий инструментарием, ну ладно, если это летающая тарелка, то давайте либо пойдем все на курсы повышения квалификации и будем изучать летающие тарелки, либо давайте отойдем и вызовем специалиста по летающим тарелкам. Если это кино прямого действия, то прямое действие подразумевает результат. А результат обсуждения этого фильма здесь и, возможно, где-нибудь еще, но ни на каких заводах, ни в каких кинотеатрах никто никогда его не увидит, поэтому как кино прямого действия оно не работает. Даже акция в храме Христа Спасителя или где-то еще имеет огромное количество случайных зрителей, на которых может оказать влияние. Это история лабораторная и, хотя вы перепрыгиваете на территорию большого кино, она все равно лабораторная. А третий пункт — всех выбесить. Так вот, это очень просто. Давайте подождем и увидим эти толпы, которые придут, отреагировав на дико изящную концепцию, что вы не хотите смотреть кино, когда вас чешут за пяточки, давайте вы будете смотреть кино, когда вас фигачат.
Анатолий Осмоловский: Недостаточно одного фильма, я говорил об этом в самом начале. Во-вторых, вы упустили еще одну очень важную вещь. Возможно, этот фильм сможет кого-то торкнуть из режиссеров, он сможет перестроить свое сознание. Вот вы стали думать, что вы левый.
Роман Волобуев: Интересно то, что все эти три концепта абсолютно противоречат друг другу: одновременно быть летающей тарелкой, агитплакатом и я забыл, что третье, довольно сложно. И, кстати, к разговору о конкуренции искусства и церкви. Я как левый это хочу сказать, хотя еще и не додумался, что это значит, но обязательно придумаю. Про то, что церкви отнимают места кинотеатров. Кажется, самая живая и съедающая сейчас весь мир киноиндустрия — это корейская в жесткой, чудовищно католической стране, упоенной своим католицизмом со своим мазохистским зрителем, который больше всего любит смотреть, как в Корее хреново. Поэтому, может быть, стоит как-то отойти и посмотреть, взлетит ли летающая тарелка, взорвется ли бутылка с зажигательной смесью, поднимутся ли толпы вдохновленных режиссеров. Может быть, действительно стоит взять какой-нибудь тайм-аут, чтобы мы не кидались друг в друга предметами и не бесились? Вы заявили три концепта, давайте посмотрим, сработают они или нет. И давайте договоримся про срок, когда они должны сработать.
Василий Корецкий: Я хочу солидаризоваться с Ромой по второму пункту, который, я считаю, совпадает с третьим. У меня вопрос к автору — каким образом это кино может дойти до зрителя, и вообще, нужно ли было снимать кино, может быть, это неподходящий медиум, чтобы донести данную идею? Может быть, стоило снимать ролик для YouTube, может быть, стоило записывать песню или ставить спектакль?
Роман Волобуев: Словом, к методу арт-группы Война нет никаких вопросов, потому что, когда они рисуют хуй на мосту, с этим можно спорить о том, что они имели в виду. Хотя абсолютно понятно, что они имели в виду, нарисовав хуй на мосту. Второе, абсолютно понятна аудитория: все. Единственное, что им можно предъявить, так это то, что у них хреново работают люди, которые пишут им пресс-релизы на английском, потому что, когда в Guardian печатают фотографию хуя на мосту, они не пишут о том, что это политическая акция, а пишут, что это какие-то вандалы. Вот это они не доработали. Все остальное — точное попадание в образ, метод, аудиторию. Аудитория — все, месседж идеально простой.
Василий Корецкий: Нужно ли было браться за камеру или можно было бы взяться за что-то другое, у меня главный вопрос, собственно.
Владимир Лященко: Есть куча предположений, которые обсуждали, что фильм попадет во враждебную политическую среду, это один вектор. С другой стороны, с простыми людьми нужно говорить простым понятным языком листовки, это совершенно противоположная интенция, требующая противоположного решения. Третье, что российская аудитория еще и садомазохистская, ее еще надо и раздражать. Из этих предположений у нас один фильм есть. Большинство режиссеров обычно никому ничего не хотят сказать и говорят, что они это сами с собой. Это иногда лукавство, но оно убедительно хотя бы внутри себя.
Роман Волобуев: Это сработало здесь, потому что мы как дети, и я в первую очередь, повелись объяснять, что там хреново актеры играют, да при чем здесь это. Потому что, когда говорят, что хреново актеры играют, все говорят, да нет, это просто новый способ игры. И ты стоишь, у тебя челюсть опускается, потому что моего инструментария для этого не хватает, и это был дико неправильный подход. Конечно, это же самое главное, потому что у фильма заявлено два метода: всех выбесить и всех сагитировать. Это есть два взаимоисключающих движения, внутри которых есть неподвижный предмет. Может, в этом и есть прелесть фильма, в том, что он абсолютно неподвижный, стоит на месте, и мы, неприятные люди, сидящие за столом, видимо, предпоследние люди, его обсуждающие.
Анатолий Осмоловский: Есть разные аудитории.
Роман Волобуев: Какие это аудитории? Вы представляете себе еще один зал, где это будет показано?
Анатолий Осмоловский: Я могу организовать десятки таких залов. На самом деле все, что вы здесь говорили, то, что этот фильм не будет показан — это все ваши размышления.
Роман Волобуев: Это не размышления, это прогноз. Давайте поспорим на деньги.
Анатолий Осмоловский: Давайте поспорим на $30 000. У вас есть такие деньги? А у меня есть.
Роман Волобуев: Так какой же вы левый?
Анатолий Осмоловский: Вы думаете, что левые бедные? Это вы очень сильно ошибаетесь. Левые брали деньги у кайзера и сделали революцию, это во-первых. Во-вторых, левых поддерживал Морозов, и у них были лучшие типографии. Если вы думаете, что левые это те люди, которые не ездят на хороших машинах, вы очень сильно ошибаетесь.
Роман Волобуев: Мне кажется, Роман, что в чем-то вы были правы, потому что это были слишком серьезные гиперболы — то, о чем говорил Анатолий. С другой стороны, я хочу его поддержать, потому что, если мы левые, условно говоря, то мы пытаемся деньги тратить на кино, на здания, на школу. В этом смысле, наверное, это не очень стыдно, когда у левого человека есть деньги, если он их вкладывает в просвещенческую или еще какую-то функцию. Мы можем по-другому объяснять, мы можем наезжать, но, мне кажется, мы должны к молодым критикам относиться с большим уважением, хотя к ним не очень прислушиваются и их задавливают. На самом деле мне, как режиссеру и взрослому, и имеющему свою гражданскую позицию, интересно услышать критику, мне интересно, что молодые люди думают и выяснить, чего, с моей точки зрения, не хватает молодым людям. Потому что мы имеем школу, и мне, с практической точки зрения, это очень интересно.
Андрей Сильвестров: По поводу реплики Романа по поводу актерской игры. Я тоже зритель этого фильма, потому что не автор. Для меня то, как там существуют актеры, является одним из верхов существования.
Роман Волобуев: Я взял свою реплику назад, потому что это обсуждать абсолютно не имеет смысла.
Андрей Сильвестров: Имеет или не имеет, но для меня это очень важно, что люди существуют в фильме очень счастливо и органично.
Борис Нелепо: Конечно же, Роман не прав, что этот фильм показывается в предпоследний и последний раз, потому что, во-первых, у Басковой есть очень большой фан-клуб, достаточно посмотреть количество просмотров на YouTube у фильма «Зеленый слоник». А, второе, на этом фестивале очень много присутствует иностранных кураторов и уже ведутся переговоры, по каким фестивалям поедет этот фильм.
Роман Волобуев: Но фильмы прямого действия и акции прямого действия не ведутся на фестивалях.
Светлана Баскова: Я хочу сказать, что нас пригласили в Вологду, Череповец, мне это так нравится, потому что вологодский фестиваль нам позвонил. А они показывают в этих двух городах. А мы снимали в Череповце, а, поскольку это закрытый город, то испод полы, меняешь кассету, а там пролетел вертолет над нами… Я очень хотела показать в Череповце, но сама бы никогда не рискнула.
Камила Мамадназарбекова: У меня очень короткое будет, на самом деле, выступление. Я немножко выбиваюсь из правого крыла, потому что мне понравился фильм и мне нравится к нему подход как к какому-то руководству к действию. По поводу того, что нужно, чтобы его смотрели. В своем блистательном антиклерикальном выступлении Анатолий использует такую как бы систему альтернативных издержек, да? Такой экономический, что ли, механизм. Либеральный. И я немножко читала про профсоюзное движение: по-моему, самое оно активное и действенное на заводах «Форда» под Петербургом, на самых благополучных заводах с высокой зарплатой, где рабочие, в общем-то, чувствуют себя лучше, чем в других местах. Вот, может быть, поговорим о соотношении левой идеи и либеральных ценностей. Для того, чтобы левая идея распространялась и работала, нужно здоровое буржуазное общество.
Роман Волобуев: Для этого нужен владелец завода левак. Я могу сказать, что на заводах «Форда» под Питером профсоюзное движение такое сильное не потому, что у рабочих больше зарплата, и они бесятся с жиру, а потому, что их за это не бьют железными прутами, как это делается по всей остальной России. Вот. Когда твой… Я помню. Что охренительный профсоюз был в издательстве «Independent Media», потому что владелец его был леваком с чудовищной прекрасной родословной. Который в момент продажи издательского дома инвесторам раздал всем, включая корректоров, процент о тех денег, которые он получил. И там было прекрасно с профсоюзами — когда директор завода левак, то, конечно же, все хорошо.
Светлана Баскова: «Форд», надо сказать, молодое предприятие. На всех вот этих вот заводах престарелых, там так все хорошо схвачено, что ничего не выйдет. Только в Тольятти профсоюз «Единство» — это единственное, где удалось на большом старом предприятии организовать независимый профсоюз и удачно.
Барбара Вурм: Просто у меня постоянно возникает и исчезает возможность вступить в ваш разговор. Во-первых, мне показалось, что у меня есть оправдание, потому что письма Белинского были написаны в Зальцбурге, а я из Австрии, это первое. Раз ты хочешь (Светлане Басковой), чтобы женщины говорили — я женщина. Но я про другую тематику. Мне хотелось бы вернуться к фильму. Я тоже думаю, что у этого фильма будет судьба и будет международная судьба, хотя не всегда значит, что это лучше. Мне было сегодня очень интересно, как раз пресс-конференция в сравнении с этой дискуссией — это одна страна, но совершенно разные культуры: и суждения, и восприятие. Ты говоришь (Анатолию Осмоловскому), что два ноль или четыре один, но я не вижу ни ваших, ни наших, я такие понятия не употребляю. К фильму возвращаясь, мне интересен один контекст, контекст, который не похож на Годара, а больше на Жильника. Люди, которые активно продвигают левую сторону в политике и превращают это в фильм. У Жильника было решение сделать документально-игровое кино, у тебя интересно то, что есть именно сюжетное решение. Обычно, если смотришь такое кино, то ты уже привык к тому, что мало событий, мало что происходит, потому что событие как таковое — это не очень постмодернистски. А здесь как раз тематика ведет к активизации, к тому, что что-то случается. Я бы не сказала, что изменяется эстетика, но есть резкое столкновение двух начал. Вот ты говоришь про форму и содержание, и мне кажется, что в этом есть суть, попытка сделать что-то. Я не хочу употреблять слово «рассказ» — действие. И вот это для меня самое интересное. Единственное, что меня, с этой точки зрения, волнует — это конец. У вас были мысли сделать конец по-другому? Простой вопрос.
Светлана Баскова: Я очень быстро отвечу. С одной стороны, когда конец печальный, хочется, чтобы… Ну раз у людей не получилось, у нас получится, какое-то протестное такое сознание — что ж такие несчастные ребята, сейчас возьмем и поможем. С другой стороны, мы там разобрались с персонажами из девяностых. Владелец завода, он представитель девяностых годов, а чиновник (там у нас есть) он представитель уже нулевых годов. В данном случае, если человек из девяностых не меняется, не адаптируется, не социализируется и не ищет другие формы существования, не сжигает свои бумаги и расписки, в этом случае, условно говоря, если он не умрет физически, то будет уже не в теме. И поэтому в любом случае человек этого поколения девяностых, его просто не будет. Печальный конец, чтобы как-то возбудить интерес к действу какому-то, чтобы еще дальше что-то случилось, чтобы еще захотелось в протесте сказать: нет, давайте сделаем так, что профсоюзное движение у нас все-таки получится. Ну как бы такая поддержка, на самом деле.
Анатолий Осмоловский: Извините, а вот аудитория критиков поняла, что этот фильм весь нашпигован цитатами из изобразительного искусства?
Светлана Баскова: Ну не весь…
Анатолий Осмоловский: Не весь, но там их много.
Константин Шавловский: А это необходимо для понимания фильма?
Анатолий Осмоловский: Абсолютно необходимо. Вы видели там работы Кабакова, вы видели там Троицу? Вы же критики, вы должны это все прочитывать.
Светлана Баскова: Ну, это очень большая разница. Критики, они не очень хорошо знают современное искусство, философы тоже, понимаешь.
Анатолий Осмоловский: Историю иконописи, может, они знают…
Светлана Баскова: Нет, это большая проблема образовательная, мы сейчас это выясняем.
Михаил Ратгауз: Слушайте, я должен был взбеситься или понимать? Или я должен был прочесть цитаты? Это цитатное еще кино? Четвертая уже концепция?
Анатолий Осмоловский: Да, да, там есть еще цитаты, это очень сложное кино, многослойное.
Михаил Ратгауз: И это четвертая концепция.
Анатолий Осмоловский: Это не концепция, это многослойность этого кино.
Светлана Баскова: Вы правы, не обязательно это все считывать. Если прямое действие есть, то это тоже здорово. Если пропаганда профсоюзного движения работает, этого тоже мне достаточно от одного зрителя.
Константин Шавловский: Мне кажется, все эти слои абсолютно противоречат друг другу, потому что цитатное кино и кино прямого действия — это просто невозможно в одном, этого просто не может быть. То есть это может быть — это же новое искусство.
Борис Нелепо: Вообще-то возможно, этим Годар занимался. Просто вообще у искусства фильма имеется способность вызывать эмоции и вызывать тягу их интерпретировать. Это два разных слоя. Какое здесь противоречие — я не могу понять вообще.

За Маркса… Реж. Светлана Баскова, 2012
Роман Волобуев: Боря, вот к разговору про Годара. Когда моя любимая киноактриса Саша Грей приехала из Сакраменто в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в пронографии, она пришла на какую-то порностудию и сказала: я вот как бы молодая актриса из провинции, хочу сниматься в порнографии. Ей сказали: придумай себе псевдоним. Она сказала: хочу называться Анна Карена — дико люблю Годара. Глава студии ей сказал: деточка (ну. Возможно, «деточка» он ей не говорил), слушай, не надо шутить шутки, которые не считывает целевая аудитория, ты вот пришла в конкретную область, назовись как-нибудь попроще. И она назвалась цитатой из Оскара Уайльда, что тоже, в общем-то, было пижонством с ее стороны. На самом деле, то, что сейчас Миша говорил — мы все время меняем правила игры. Мы сначала говорим, что это агитка, а сейчас мы должны были Караваджо там прочесть…
Светлана Баскова: Ну, мы вас хотим немножко запутать…
Анатолий Осмоловский: Ничего мы не хотим, фильм многослойный, вы что!
Константин Шавловский: Тут говорят, что Годар, но я как наивный…
Роман Волобуев: Годар его троцкистского периода был просто как спичка, у него были такие лобовые фильмы, где никакой культурный багаж виден в принципе не был. А когда он совсем состарился, он начал снимать съезды компартии. И это было уже настолько просто, что, ну, как бы потому что при всем его безумии, в котором он находился, он еще четко понимал, с какой аудиторией он разговаривает. Даже когда он снимает фильм «Социализм», наверное, самый вообще левый фильм во всех смыслах, это было блистательное попадание в аудиторию, потому что я видел людей, катающихся по полу на его первом показе в экстазе, и видел людей, в ярости выбегающих из зала. Очень точное попадание в очень конкретную аудиторию. И тут вопрос просто о том, с кем мы разговариваем.
Светлана Баскова: Ой, а вот мне так интересно — «Социализм» Годара как Вы поняли? Вы прямо все считали?
Борис Нелепо: Он с него ушел так же, как с Вашего фильма. Так что Вы в хорошей компании.
Светлана Баскова: Просто настолько сложный фильм, если Вы его поняли, было бы здорово, если бы Вы его объяснили.
Константин Шавловский: Ну, мы не будем сейчас все-таки обсуждать фильм Годара. Я могу Вас отослать на сайт журнала «Сеанс», где большое обсуждение фильма Годара.
Светлана Баскова: Спасибо.
Михаил Ратгауз: Нет, тут смешно не это, тут смешно не то, что он многослойный. Ой, что это я? Это вообще не смешно, это прекрасно. Тут смешно, что вы требуете знаточества в понимании этого фильма, вот это забавно.
Светлана Баскова: Нет, просто Анатолий с точки зрения художника требует.
Анатолий Осмоловский: А почему нет, а почему нет? Я хочу компетенцию узнать вашу. Извините, вы здесь разбиваете фильм по бокам. Какова ваша компетенция? Мне очень интересно. Вот, к примеру, Роман Волобуев, он там возмущается, какую-то снобистскую позицию занимает. Вы можете вообще снобистскую позицию-то занимать? У Вас есть уровень компетенции, чтобы такую снобистскую позицию занимать?
Роман Волобуев: Нет, конечно.
Анатолий Осмоловский: А чего ж Вы тогда такую позицию занимаете?
Михаил Ратгауз: Слушайте, узнавание цитат из Кабакова не является обязательным свойством культурной компетенции.
Роман Волобуев: Я именно потому так бескомпромиссен, что я абсолютно некомпетентен. Чем более невежественен человек, тем более он агрессивен в своей позиции. Вот это абсолютно про меня.
Владимир Лященко: Мне кажется, тут заявляется такой радикальный жест — отмена первого слоя, потому что, когда у тебя много слоев, вот эти глубинные слои, они работают уже после первого слоя. Если первый слой совершенно не работает, то они могут там содержаться, эти слои, мы даже можем их видеть. Вот, например, насчет Кабакова я сказал, что, действительно не видел цитат, хотя некоторые работы видел, а про иконописность съемки в комнате, когда они втроем, когда они по одному исчезают, это я в принципе прочитал, но это уже было совершенно неважно для меня.
Василий Корецкий: Говоря об этом четвертом слое, авторы фильма полностью дискредитируют, не то, что дискредитируют, а подрывают свою позицию. Есть такой запрещенный, на самом деле, в полемике прием как неймдроппинг. Вот то, что сейчас происходит, это он и есть. Я крайне разочарован и призываю вас прекратить это.
Константин Шавловский: А дело в том, что мы это в любом случае прекратим. К сожалению, наше обсуждение подходит к концу.
Андрей Шемякин: Добрый вечер. Приходится говорить тезисами, поэтому все доказательства уже в кулуарах. Хотя то, что сказал Борис Нелепо мне очень близко, и я практически с ним согласен во всем. Первый вопрос: где соотношение между образом и идеей? Картина Светланы попадает абсолютно в нерв современной ситуации, потому что уже давно образ и идея друг с другом не дружат. После борьбы с логоцентризмом, после годаровских экспериментов, после всего, что я, естественно, опускаю, эта картина абсолютно органична в том, что возвращает к первому слою, если угодно, к месседжу, это не значит, что она есть плакат. Это первое. Второе. Человек может не знать ту или иную цитату, может не знать картину или традицию, к которой он, так или иначе, принадлежит или с ней соотносится. В этом смысле, главный герой нашего времени — это Журден, он продолжает им быть, счастливо существуя, не зная, что он говорит прозой. Я вовсе не считаю таковым человеком Светлану, наоборот, я считаю, что есть как минимум две картины, одна долгого действия, один из шедевров итальянского политического кино, к которой эта картина имеет некоторое отношение, чисто типологическое. Очень интересно сравнить. Это «Рабочий класс идет в рай» Элио Петри и в нашем современном отечественном кино блистательная картина Алены Полуниной «Революция, которой не было». Это мой второй тезис. И третий тезис. Пятое или шестое прочтение, как угодно, но это фильм-предупреждение. Именно потому, что до прямого действия здесь не то, что далеко, оно наступит, и тогда будет нечто другое. И в этом смысле здесь абсолютно есть соотношение между тем, что мы читаем в газетах, и тем, что не доходит до этих людей, которые сейчас благополучно, так или иначе, пытаются опротестовать. Я совершенно не против протеста, я говорю просто о том, что художник имеет право быть на совершенно другом уровне рефлексии. И в какой-то момент, в предчувствии, если угодно, левого кризиса, вы помните последнюю строку, последний титр «Уикенда»: «левый год нулевой». Так вот, в этом смысле, у нас, до некоторой степени, «год нулевой», и это картина нулевого цикла. Спасибо.
Борис Нелепо: Я очень быстро. Первое. Я повторю, я хочу еще раз сказать — этот фильм работает безо всякого основания цитат. Я, правда, на нем хохотал и я уверен, что, если зритель на наго идет, то ему будет весело. Второе. Очень смелый, даже в одном названии «За Маркса…», в нашей очень правой стране это реально круто. Респект Вам, Света, и респект Вам, Анатолий. Третье. Фильм очень современный, потому что, в общем-то, фильм «Космополис» Дэвида Кроненберга, который выходит, он имеет просто буквальные пересечения с этим фильмом: в «Космополисе» торгуют Ротко, у вас торгуют Родченко с теми же целями. И это снова тоже левый манифест, и это говорит о том, что в воздухе что-то носится, и круто, что такие художники, как вы и Кроненберг, это замечают. И четвертое. Заканчиваю свое выступление названием вашего предыдущего фильма — «Одно решение — сопротивление».
Константин Шавловский: Ну, в общем, это было выступление прямого действия Бориса Нелепо, на котором мы завершаем. Спасибо, Светлана, спасибо, Анатолий, спасибо всем участникам.
Материалы по теме:
Кинотавр-2012. Пять вечеров: Василий Сигарев
Кинотавр-2012. Пять вечеров: Михаил Сегал
Кинотавр-2012. Пять вечеров: Борис Хлебников




