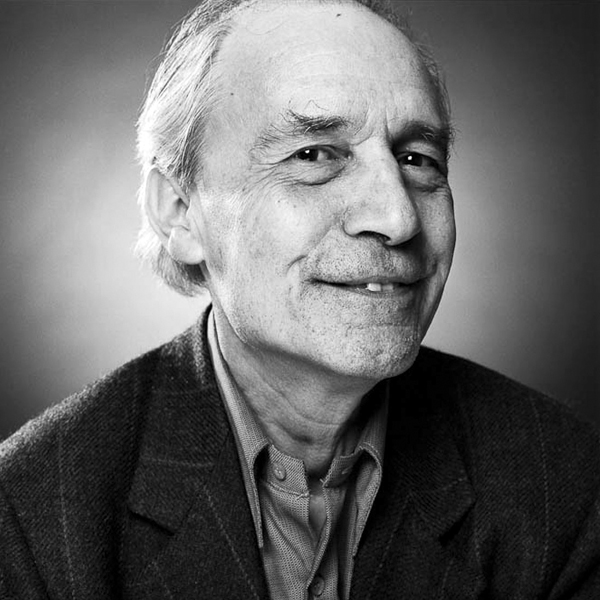Жак Риветт. Модернист в поисках заговора
СЕАНС — 61
У Жака Риветта было два очевидных фетиша: с одной стороны заговор, с другой — театр. В том или ином виде их сочетание можно встретить почти во всех фильмах режиссера. Во французском слове complot («заговор») присутствует английское plot («сюжет», «история»). Заговор — это сюжет par exellеnce. Но сюжет не является здесь данностью, его еще нужно поискать. Заговор как сюжет как бы внеположен самому фильму. То ли он есть, то ли его нет, поэтому сюжет часто показывается через персонажа, который никак в него поначалу не вовлечен, но втягивается постепенно. Так было уже в первом полнометражном фильме Риветта «Париж принадлежит нам» (1958), где Анну, оказавшуюся на случайной вечеринке свидетельницей странных разговоров и ссор незнакомых ей людей, затягивало в чужую жизнь, как Алису в кроличью нору.
Театр — не спектакль, а бесконечная подготовка к нему.
Паранойя — главная фобия фильмов Риветта, хотя порой она может показаться игрой. Паранойя — вера в единый организующий принцип, в смысл, который объединит распадающиеся, разбегающиеся элементы мира. Но что разрушает сюжет, нарратив или plot? Вопрос можно переформулировать так: зачем Риветт постоянно показывает театральные репетиции? Он не был театральным режиссером и за всю жизнь поставил два с половиной спектакля. А еще почему он так настойчиво соединяет их с мотивом заговора, например, как в «Банде четырех» (1989)? По идее, какая-то зацепка должна быть в самом тексте, который репетируется, но это отнюдь не всегда так. Понятно, что Риветта беспокоят и не отпускают отношения театра и кино, но для нас это сейчас наименее интересно. Эти два вида искусства за то время, которое прошло со времен баталий в Cahiers du cinéma и статей Базена, с одной стороны, решительно разошлись (современному зрителю безразлично, похоже кино на заснятый на пленку театр или нет, он не станет сравнивать), с другой — современный театр перенял и интегрировал массу кинематографических приемов.

Интереснее, что театр у Риветта — субститут тропа «кино-в-кино». Репетиции — это процесс порождения текста, встроенный в порождаемый текст. У Риветта-модерниста есть тот же комплекс, которым страдает большая часть послевоенного искусства, — невозможность просто так взять и рассказать историю. Историю еще нужно произвести — придумать, проговорить реплики, отрепетировать жесты, принять позы, расположиться в пространстве и так далее. Риветт — известный теоретик понятия «мизансцена»1, уже в первых статьях в Cahiers он делил режиссеров на тех, у кого мизансцена есть, и тех, у кого ее нет. У него мизансцена реализована буквально — представлена в самих фильмах как самостоятельный элемент. Театр — не спектакль, а бесконечная подготовка к нему. Это затягивание, увязание, как в кошмаре, расползание рассказа, который никак не может прийти к завершению. Но plot нельзя просто так взять и представить. «Безумную любовь» (1969) можно проанализировать так, что театральная сцена и сцена семейной жизни окажутся в отношениях дополнительного распределения: то, от чего Себастьян (Жан-Пьер Калфон), театральный режиссер, ставящий «Андромаху», отказывается в театре в отношениях с актерами — от манипуляций, обмана, диктаторских замашек, происходит в его жизни с Клэр (Бюлль Ожье), но именно в силу того, что все эти негативные эмоции можно вытеснить, театр оказывается местом очищения2. И все же «Безумная любовь» — это еще невозможность просто снять семейную драму, не вмешивая в нее «Андромаху». А вот фильм, в котором театр отсутствует, но есть просто история, «Тайная защита» (1998), можно и не опознать как риветтовский.
1 «Мизансцена» у Риветта — это по сути дела режиссура, которая ощущается как стиль в противовес его отсутствию или в противовес кинематографу сценаристов, каковым представители Новой волны считали предшествующий французский кинематограф, в котором фигура режиссера оказывалась второстепенной.
2 Такая интерпретация «Безумной любви» дается в прекрасной монографии посвященной Риветту, к которой я не раз обращалась при написании этой статьи: Frappat H. Jacques Rivette, secret compris. Les cahiers du cinéma, 2001.

Если реальность опознается как заговор, значит, она не стихийная, а организованная, значит, сюжет возможен. Но сюжет все время тормозится, деконструируется, размывается театральными репетициями как процессом текстопорождения. Это прекрасно иллюстрирует эпизод из «Банды четырех». Героини фильма занимаются в театральной студии у Констанс (Бюлль Ожье), актрисы и известного театрального педагога. Занятия длятся уже много лет, но до выступлений дело еще так и не дошло. Часть студентов уже разбежалась, но несколько девушек упорно продолжают заниматься. У одной из них, Сесиль (Натали Ришар), любовник бежал из тюрьмы. Подруги шепотом по цепочке сообщают ей об этом во время занятий. По их окончании Сесиль спешит уйти, и именно тогда Констанс просит ее задержаться для разговора. Как потом оказывается, именно Констанс прячет сбежавшего жениха Сесиль, за что попадает в тюрьму. Заговор и театр, который, казалось, только тормозил рассказ, оказываются увязаны вместе. И теперь уже девушки приходят заниматься одни, без Констанс.
Цветы — искусственные или бумажные, романтические герои — жалкие кривляки.
Уже в первом полнометражном фильме Риветта есть эта двойственность заговора в самом названии «Париж принадлежит нам» и следующем за ним эпиграфе «Париж не принадлежит никому». Это два полюса, между которыми раскачивается повествование. «Париж принадлежит нам»: мы в центре заговора, а значит и в центре мира, поскольку позиция параноика хороша тем, что все вращается вокруг него. «Париж не принадлежит никому»: заговора нет, или нам до него никогда не добраться, не поймать за хвост. В финале фильма перепутываются разные уровни заговора — глобальный уровень, на который все время намекал Филип Кауфман (Даниэль Кроэм), затягивая Анну (Бетти Шнайдер) в свои сети, и уровень мелких интриг, принимаемый за глобальный. Но путаница все-таки приводит к смерти режиссера Жерара Ленца (Джани Эспозито) и смерти брата Анны Поля (Поль Бисилья), которого американка Терри (Франсуаз Прево) убивает, приняв за агента глобального заговора, тогда как он участвовал только в интригах против Жерара. Порой сама навязчивость этой конъюнкции театра и заговора отдает некоторым чрезмерным культуроцентризмом. Но Риветт как будто иллюстрирует максиму Алена Бадью о том, что кино связано только с частным капиталом, частной индустрией, тогда как театр — всегда дело государственное3. Так что театр как троп подходит Риветту гораздо больше, чем процесс съемок фильма.
3 Бадью А. Рапсодия для театра. Краткий философский трактат. М., Модерн. 2011.

Позднее он стал писать сценарии во время или даже после фильма.
«Селин и Жюли едут в лодке» (1974), пожалуй, самый популярный фильм Риветта, в этом отношении стоит несколько особняком, поскольку формально в нем нет театральных репетиций. Есть, правда, сцена в клубе, на которой Жюли (Доменик Лабурье) показывает фокусы, а еще театральная труппа, с которой связана Селин (Жюльет Берто). Работа текста здесь представлена через сюжет с таинственным домом, который Селин и Жюли придумывают на ходу, переносясь туда то вместе, то поочередно при помощи психоделических леденцов-мадленок. Внутри это, конечно, театр, но застывший в бесконечном мертвенном повторении. Оказавшись внутри своего вымысла, fiction, они отрабатывают детали, жесты и реплики, все больше набираясь смелости и все свободнее ощущая себя. Это фантазия в том числе и в психоаналитическом смысле слова. Но как в «Головокружении» (1958) Хичкока, когда к фантазии приближаются слишком близко, она десублимируется. Вместо парадных комнат — затхлые и захламленные чуланы и коридоры, гламурные наряды пропахли нафталином, цветы — искусственные или бумажные, романтические герои — жалкие кривляки. Но в этой общей фантазии, имеющей имплицитный сексуальный подтекст (Берто и Лабурье в то время жили вместе), можно раздобыть себе ребенка — девочку Мадлен, которую Селин и Жюли удается вывезти на лодке. Или же Мадлен — это они сами. Возможно, они спасли самих себя, проработав, в психоаналитическом смысле, детскую фантазию.
Фильмы «новой волны» — это часто истории своего собственного создания, настолько они определяются случайностями, происшествиями на съемочной площадке и вне ее, помехами и их преодолением. Но они и живут, движимы этой энергией борьбы за собственное существование и осуществление. И Риветт как режиссер сумел просуществовать на ней очень долго.

У фильма «Париж принадлежит нам» был сценарий, написанный за год до начала съемок. Однако из-за хронического отсутствия средств фильм и снимался еще целый год. По рассказам участников съемок, между началом и концом некоторых сцен проходило несколько месяцев. Персонаж начинал спускаться по лестнице, но кадры вверху и внизу отделял друг от друга год. Точно так же, с большим временным разрывом из-за занятости актеров, могли сниматься части «восьмерки». Фильм вообще делался на обрезках чужой пленки — «Кузенов» (1959) Клода Шаброля. Роли переписывались на ходу, подстраивались под приходивших и уходивших актеров: так, например, было с персонажем, которого в итоге играет Жан-Клод Бриали. На особые ухищрения съемочная группа пускалась, чтобы решить проблему с осветительными приборами. В дело шло все: от барж, проплывавших ночью по Сене, чьими огнями можно было воспользоваться для освещения ночных съемок на мосту, до прожекторов, подсвечивавших Лувр, которые разворачивали и приспосабливали для съемок, а потом объяснялись с полицией. Однако здесь по-настоящему проявился дух Риветта-режиссера, суть которого в импровизации. Точнее, в инкорпорации в текст произведения случайного и непредвиденного, как будто сама реальность должна была доделывать за режиссера. Поэтому Риветту не понравился опыт работы над экранизацией «Монахини» (1966) Дидро. Он вызубрил текст наизусть, и в итоге ему стало скучно. Позднее он стал писать сценарии во время или даже после фильма.
Текст против импровизации — важная для Риветта диалектическая оппозиция.
В «Безумной любви» собственно сценария не было, но была написана общая история на тридцать страниц. «1: Спектр» (1974) строился на чистой импровизации. Риветт и его соавтор Сюзанн Шиффман отобрали группу актеров, которым была предоставлена «руссоистская» свобода. (Риветт одно время планировал снять экранизацию произведений Руссо, в которой молодого философа играл бы Жан-Пьер Лео.) Каждый из актеров придумывал историю своего персонажа, его бэкграунд. Остальным не рассказывал. Была только общая канва — «История тринадцати» Бальзака. Бюлль Ожье, например, играла как бы герцогиню де Ланже. Дальше актеры говорили, кто с кем хочет встретиться и когда, Сюзанн Шиффман намечала точки, соединяла их и получала график-сюжет. Ожье называла этот метод работы «ситкомом до появления ситкома» и рассказывала, что в действительности он вызвал у актеров страшную панику. Так, Жан-Пьер Лео вообще не умел импровизировать, хотя легко приспосабливался к любым предложенным обстоятельствам, поэтому для него придумали роль без диалогов. Шиффман предложила сделать из него глухонемого с гармоникой и ему одному дать текст — Бальзака и Кэррола. Так возникла основная линия напряжения фильма: глухонемой Колен учится говорить по книгам, готовому тексту, а режиссер, которого играет Майкл Лонсдейл, заставляет свою труппу отказаться от языка в пользу неартикулированных звуков животных и при этом самим «породить» текст Эсхила. Текст против импровизации — важная для Риветта диалектическая оппозиция.

Нереализованные замыслы Риветта не менее интересны, чем те, что ему удалось воплотить. Во второй половине семидесятых он занялся эскапистским проектом — циклом «Дочери огня», который должен был состоять из крайне условных картин, снятых в павильоне и лишенных каких бы то ни было связей с современной Францией, чья «свинцовая» действительность, по признанию режиссера, ему претила. (Возвращением в нее и подведением печальных итогов жискардэстеновской эпохи станет фильм «Северный мост», 1981.) В основе проекта лежал одноименный цикл Жерара де Нерваля, в стилистике фильмов должно было чувствоваться влияние Нерваля и Кокто. «Дочерям огня» предстояло воплотить в себе идею перманентного кинематографа: съемки одного фильма плавно переходят в съемки другого, главная героиня одной истории в следующей оказывается второстепенным персонажем. Риветт всегда тяготел к своего рода эпосу, пусть и герметичному. Четыре фильма — четыре жанра. Любовная история — это «История Мари и Жюльена», в которой первоначально должны были сняться Лесли Кэрон и Альберт Финни (или даже Морис Пиала, который, правда, сразу отказался). Далее должен был последовать фантастический фильм, и Риветт его снял — это «Дуэль» (1976) с Бюль Ожье и Жюльет Берто. Проектировавшийся вестерн в итоге превратился в «приключенческий» фильм «Северный ветер» (1976). Четвертой должна была стать музыкальная комедия с Анной Кариной в главной роли. Предполагалось, что все диалоги в фильмах будут состоять из цитат, как в «Дуэли». Однако уже на второй день съемок «Истории Мари и Жюльена» Риветт сломался и буквально исчез со съемочной площадки.

Счастливая развязка как будто запирает героев внутри театра.
«Попробуй узнай» (2001) — своего рода заключение к «Дочерям огня» и «Безумной любви». Героине фильма Камий (Жанна Балибар) удается справиться в жизни с тем, с чем не смогла справиться Клэр из «Безумной любви». Потому что на сцене она играет Неизвестную в пьесе Пиранделло «Какой ты хочешь, чтобы я была». Неизвестная богемная дива, испытывающая опустошение после многих лет распутной жизни в Берлине, случайно сталкивается с человеком, который уверен, что она — его пропавшая жена Чия, и соглашается стать ею, поддержав иллюзию несчастного мужа. То есть соглашается стать вместилищем, сосудом для чужой страсти и чужой личности. В «Попробуй узнай» представлены не репетиции, а уже готовый — и получившийся — спектакль. У Камий совсем иные отношения с мужем-режиссером Уго (Серджо Кастеллито), чем у Клэр с Себастьяном в «Безумной любви». Здесь женщину, Камий, запирает ее бывший любовник Пьер (Жак Бонаффе), но ей удается сбежать при помощи бурлескного трюка — через люк на крышу, а оттуда на улицу. Зато мужчина, Уго, запирается сам в гостиничном номере, чтобы избежать соблазнения другой женщиной, Доменик (Элен де Фужероль). В этом фильме дуэль происходит не между женщинами, как в «Дуэли» (где боролись богини Солнца и Луны), а между мужчинами — Уго и Пьером, когда они напиваются до бесчувствия на колосниках театра. Женщины же, Камий и Соня (Марианна Баслер), с которой теперь живет Пьер, становятся подругами и сообщницами. В «Дуэли» женщины сражались за отравленный перстень, в «Попробуй узнай» Камий добывает украденный перстень для Сони, а та отдает ей обратно, потому что без него легче. И так же Доменик просто дарит Уго разыскиваемую им неизвестную пьесу Карла Гольдони «Судьба венецианца», отказавшись от любовных притязаний на него. Пьеса и перстень должны спасти от катастрофы идущий ко дну театр. Но театр в «Попробуй узнай», состоявшийся и спасенный, как будто поглощает жизнь. В финале счастливая развязка происходит как будто на сцене, а не в жизни: Пьер после дуэли барахтается под колосниками в страховочной сетке, Соня, примирившись с Камий, поднимается его спасать, Доменик танцует со своим сводным братом, укравшим перстень, Камий и Уго тоже танцуют. То, что казалось жизнью, вдруг застыло, хотя до этого Камий сумела из пыльного, захламленного чулана, напоминавшего кулисы заколдованного дома в «Селин и Жюли», выбраться на волю, но до финала было еще далеко. Счастливая развязка как будто запирает героев внутри театра — еще одна рифма к «Дочерям огня», второе название которых — «Сцены из параллельной жизни».

«Попробуй узнай» — своего рода предварительный итог творчества Риветта, но не последнее слово. После этого он все-таки снял «Историю Мари и Жюльена» (2003), а также, в 2007-м, экранизацию «Герцогини де Ланже» — «Не тронь топор» (вспомним, что Бюль Ожье в «1: Спектр» играла этого персонажа) и «36 видов пика Сен-Лу» (2009).
Любой заговор может обернуться всего лишь мелкими кознями.
«Историю Мари и Жюльена» можно представить как «Селин и Жюли» наоборот. Уже не девушки, движимые духом сообщничества, спасают ребенка из заколдованного дома. Наоборот, они сами — призраки самоубийц и обитают по ту сторону реального мира, в мире параллельном. Весь фильм выполнен в каких-то свинцовых тонах, его пространство лишено поэзии. Прекрасна только параллельная жизнь: когда призраки общаются друг с другом в комнате с желтыми витражами или когда один из них является сестре в магазинчике тканей. Контраст между мертвенным и застывшим «потусторонним» заколдованным домом и летним Парижем, наполненным воздухом и светом, из «Селин и Жюли» здесь оказывается перевернут. Задача призраков — освободиться, чтобы наконец исчезнуть. Но как освободиться, они не знают. Адриена (Беттина Ки) хочет, чтобы сестра уничтожила ее предсмертное письмо. Мари (Эммануэль Беар) и вовсе не хочет освобождаться, потому что влюблена и живет с Жюльеном (Ежи Радзивилович). Но она периодически «залипает», застывает, а также все время стремится повторить сцену своего самоубийства, воссоздав на чердаке у Жюльена детали интерьера комнаты, в которой повесилась. Правила игры призракам известны не до конца, они только точно знают про «запрещенный» жест, после которого окружающие больше не могут видеть и забывают о них. Жюльен пытается перерезать себе вены, полагая, что спасет Мари, но та делает жест и стирает себя из жизни и памяти Жюльена. В итоге Мари все-таки удается остаться в реальной жизни, но придется доказывать Жюльену, который ее не помнит, что она — та, кого он любит. Как это происходит — Риветт не показывает. Сыграв в жанр фильма о привидениях почти по всем правилам («Сцены из параллельной жизни» должны были быть упражнением в жанровом кино), он оставляет конец открытым.

В последнем фильме Риветта «36 видов пика Сен-Лу» представлен уже не театр, а цирк, цирк-шапито, самая простая и «бедная» форма. Что это — издевка над собственным фетишем? Или намек на зачарованный мир классического кино, ставший суховато-абсурдистским (цирк у Риветта выглядит, как постановка Беккета) и совершенно ненужным зрителю4. Зритель не идет в цирк, с которым некогда была связана Кейт (Джейн Биркин), и лишь случайно встретившийся ей на дороге итальянец Витторио (Серджо Кастеллито) громко смеется, когда усталые клоуны разыгрывают свое многолетнее антре. Цирк в фильме, кажется, существует уже не для зрителя и даже не сам для себя, но для одной только героини. Как Магический театр в «Степном волке» Гессе — чтобы излечить ее психологическую травму. И лишь за этим отклонился от своего пути из Милана в Барселону Витторио. Их встреча так и должна остаться случайной. Ему ничего не нужно от Кейт, только помочь. Уговорить ее бывших цирковых коллег снова устроить номер с хлыстом, во время которого по вине отца Кейт погиб ее любимый человек. Кейт, la revenante (во французском это слово означает одновременно и «призрак», и «вернувшийся»), излечивается и действительно возвращается к прежней жизни.

«В конечном счете», общество живет «стихийно», и эта стихия иногда порождает глобальные изменения.
Если вернуться к базовым оппозициям Риветта — «заговор — театр», «сюжет — его отсутствие», — можно предположить, что вся его многолетняя игра на кромке репрезентации, несмотря на очевидную вписанность в (пост)модернистский нарратив, постоянно ставящий под вопрос символическую рамку повествования, например за счет ее включения в высказанное и представленное, имеет отчетливо локальный, французский характер. Стремление оказаться по ту сторону символического кода — особенно заметное по руссоистскому проекту — неизбежно порождает подозрение в наличии «заговора» как инстанции, одновременно мешающей развертыванию стихийного сюжета и составляющей саму его суть, всегда непременно скрытую и нам неизвестную. Заговор по самой своей структуре остается двусмысленным — с одной стороны, это мелкая подробность, частный непроницаемый узел сюжетных линий, который еще только предстоит распутать, распустить, показав, как именно он встроен в хаотическую реальность без сюжета и без гарантии нарративной устойчивости. Любой заговор может обернуться всего лишь мелкими кознями. Но с другой стороны, он то, что всегда остается в качестве фона, как гарант элементарного порядка, отсутствующая сцена, которая самим своим наличием порождает иллюзию синтеза, сцепления. Такой заговор можно увидеть только краешком глаза, потому что он условие того, что на все остальное можно смотреть прямо, в лоб. Естественно, проблематичность заговора рождается из совмещения двух этих планов, позволяющего представить глобальное условие построения сюжета всего лишь мелкой подробностью самого этого сюжета, то есть некоторым непрозрачным, тяготящим затруднением, которое нужно преодолеть или уничтожить.
В известном фильме Алана Пакулы «Заговор «Параллакс»» (1974) разыгрывается один из вариантов снятия этой двусмысленности заговора-повествования. Главный герой идет по следам тайной могущественной организации, прилагает немало усилий, чтобы вскрыть заговор, но в итоге выясняется, что организация рекрутирует именно таких людей, которые пытаются ее разоблачить, она буквально питается их разоблачающими и критическими усилиями. Зазор между героем и сюжетом продуктивно присваивается: именно он создает то напряжение, которое и составляет суть тайной организации. У Риветта мы никогда не находим столь «удачного» (хотя и трагического для героя) завершения — «субстанция» заговора никогда в полной мере не становится «субъектом»: децентрированный и мало что понимающий герой не способен прийти к осознанию того, что именно его смещенная позиция как раз и порождает силовое поле заговора, интриги, расстановки персонажей и т. п. В результате горизонт стихийного, руссоистского, дикого (sauvage) порождения смысла не устраняется, а, скорее, каждый раз отодвигается снова и снова, поскольку сюжетная канва на каждом из уровней может быть разложена на мелкие подробности, которые ничего не значат. Пожалуй, ближе всего к модернистскому (или гегельянскому) решению проблемы заговора и самой возможности сюжета Риветт подходит в «36 видах пика Сен-Лу», в котором уставший, заезженный сюжет возрождается, собираясь в своеобразную психодраму.

Риветт предпочитает бесконечную игру их коагуляции в заговоре, позволяющем видеть невидимого противника.
Во всем этом отчетливо чувствуется и след Французской революции, образовавшей своеобразную точку неразрешимости в трактовке презентации-репрезентации. Тема «заговора» имеет отчетливо правый уклон: в сам концепт Революции встроено представление о том, что она не была чисто персональным делом, не выступала продлением иллюзорного понимания политики как совокупности личных отношений королевской семьи и нобилитета. «В конечном счете», общество живет «стихийно», и эта стихия иногда порождает глобальные изменения. Но уже в фильме «Париж принадлежит нам» Риветт совмещает эту рамку глобального анонимного движения, представленного в терминах, весьма близких, например, к Франкфуртской школе (милитаризм, фашизм, рационализм и т. п.), с представлением, будто за всем этим «кто-то стоит». По сути, в его фильмах постоянно воспроизводится шок Французской революции: конечно, были безличные, хаотические, едва ли не руссоистские основания для столь масштабного социального изменения, но этих оснований всегда слишком мало, должен быть кто-то, кто стоит за ними, кто все это направляет, — участники заговора. Поэтому термины какого-нибудь марксистского, ставшего вполне уже стандартным к шестидесятым годам, анализа историко-политического развития (силы реакции против сил прогресса) дублируются «личными», «персональными» терминами: если в марксистском воображаемом предполагалось, что, скорее, именно силы реакции принимают персональную форму (заговор промышленников, военщины, черных полковников и прочих нехороших персонажей), тогда как силы прогресса — они на то и силы, что им, по большому счету, не нужна какая-то мелкотравчатая конспирация, то у Риветта ситуация зазеркаливается и отчасти даже переворачивается: персональным, но анонимным силам реакции противостоят тайные группы прогресса, полностью исключенные из современного общества — которое, что неудивительно, как раз и оказывается анонимным пособником персональных сил реакции (как одной из потенций образования сюжета как такового). Не замечать заговора и активной позиции его участников — вот чем занимается общество, которое постоянно апеллирует к «разуму», к тому, что здравый смысл возьмет свое, но, по Риветту, такой нейтралитет — не основа для дорепрезентативного описания, а, в лучшем случае, бригада рабочих сцены, работающих на консервативный заговор.

В современных условиях освобождение от «репрезентации» не позволяет, вопреки попыткам, к примеру, Арто, выйти к некоей полноте содержания и жизни, к «жестокости», а, скорее, оставляет нас с пространством бесконечной подготовки, репетиции, которая увязает в бытовых подробностях, ничего не значащих циклах, рутинах, привычках. Этой буржуазной, богемной или пролетарской «микросоциальности», обещавшей стать проявлением глобальных «сил» Модерна, «медленного» движения и преобразования реформистского типа, Риветт предпочитает бесконечную игру их коагуляции в заговоре, позволяющем видеть невидимого противника. Ведь, в конце концов, что такое заговор, если не проекция репрезентации на презентацию, не отказ от глобального описания ради его же спасения, не бесконечность «распознавания паттерна» на поверхности стихий и анонимных возмущений?