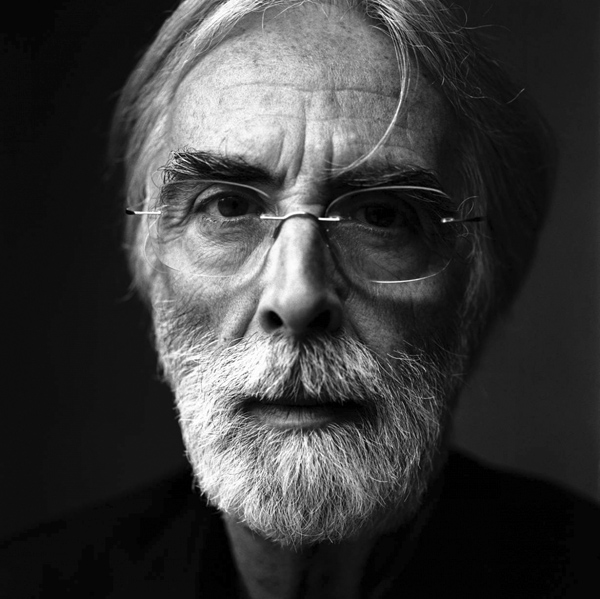Больно, больно, больно
«Тот, кто не прольет слезу, смотря «Любовь», со всем основанием может быть назван дураком». Не без оснований я выпустил из рук «Либерасьон», читая эту фразу, которой начинается статья Жерара Лефора о фильме «Любовь», опубликованная на следующий день после каннского показа. Начиная текст подобной глупостью, Лефор присоединяется к закрытому клубу «Плачь или сдохни», состоявшему до сих пор из двух выдающихся режиссеров, которые похожим образом предостерегали нечестивцев от всякого сдерживания слез: Люку Бессону, высказавшемуся в связи с фильмом «Леди» («тот, кто не плачет, должен провериться») и Роз Бош, говорящей о непокорных, не принимавших ее фильм «Облава» как о «занудах, близких по духу Гитлеру». Трепещите, вы, чьи глаза остаются сухими! Вы, зануды, дураки, больные, нацисты, а зачастую и все это вместе! […] Но, поскольку мои глаза не наполняются слезами, мне хотелось бы адресовать фильму один-единственный вопрос: «Любовь» — это фильм о любви или это фильм Ханеке?

Действительно, теоретически тяжело не растрогаться, глядя на последнюю одиссею любящих друг друга супругов Анны и Жоржа, которым предстоит встретить лицом к лицу физическую слабость, страдание и смерть как последнее и жестокое испытание любви, в их случае все-таки больше не нуждающейся ни в каких доказательствах. И поскольку эти пожилые возлюбленные с их мрачной решимостью, с их честностью, с их естественным эгоизмом вступают в битву и за себя самих, и за нас («Наконец фильм, достойный нас, то есть достойный человечества», — распаляется Лефор в своем ex-voto), нужно заслужить этот фильм, быть достойным покориться ему (в противном случае — порка: Cahiers было запрещено присутствовать на парижских пресс-показах по той причине, что недостаточно любили «Любовь» в Каннах). Сложить оружие (и отказаться от критики), но по самой прекрасной из возможных причин — во имя любви. И преклонить колено перед режиссером, который не преподносит нам ее завернутой в розовую бумагу, но показывает со всем тем ужасным, что она несет в себе. Не киношная любовь, а любовь настоящая. Настолько великая, что включает в себя все: боль, хрипы, оскорбления. Даже свою абсолютную противоположность — ненависть.
Он пытается, скорее, вызвать эмоцию, резкую и тревожную, используя эффект тишины, удушающую атмосферу помещения, грубую тяжесть всего, что окружает героев.
Актеры восхитительны, постановка великолепна — дело, стало быть, решенное: великий гуманистический фильм великого автора, который на склоне лет разоблачает новую чувствительность. Но что в действительности интересует нашего запоздалого гуманиста? Две вещи, как и во всех его фильмах: страх зрителя перед фильмом и перед собственными чувствами. Ханеке — режиссер критикующий, и это, конечно, большое достоинство: он выставляет напоказ спрятанное, разоблачает тайное, открывает скрытое. То, что зарождается глубоко внутри, кипит и вот-вот выплеснется наружу: влечение к смерти и распад человеческих отношений, притаившиеся под оболочкой обычной жизни простых австрийских обывателей (трилогия «эмоционального оледенения»: «Седьмой континент», «Видео Бенни», «71 фрагмент хронологической случайности»); извращенную привлекательность насилия («Забавные игры»); неврозы буржуазной элиты («Пианистка»); несправедливость колониальных отношений («Скрытое»); движение от протестантского ригоризма к протонацизму («Белая лента») и т.д. Никто не сможет поставить в упрек Ханеке выбранные им темы (очень сильные) или оспорить определенную смелость в их раскрытии, тем более не сможет (особенно здесь, в Cahiers) упрекнуть его в том, что он задумывается о морали картины и о нравственности зрителя. А значит, нужно доверять Ханеке как критику. По-настоящему оскорбительным для него было бы избавить «Любовь» от критического изучения во имя эмоции, ведь именно на нее в первую очередь режиссер направляет свой скальпель.

Канн-2012: Любовь как случайная смерть
После открывающих фильм кадров, которые демонстрируют нам пустую квартиру супругов, а потом — мертвую Анну на кровати, идет замечательный эпизод, флэшбэк, переводящий нас в настоящее истории, рассказанной в «Любви»: все начинается со сцены на концерте, мы видим публику, занимающую свои места, и среди сидящих в зале — Анна и Жорж, едва различимые среди множества людей (возможно, зритель заметит здесь прием, знакомый по книжкам «Где Уолли?»). Начиная с возвращения в квартиру (из нее мы больше не выйдем), мы становимся свидетелями будничной жизни этой пары преподавателей музыки на пенсии. Они занимаются обычными своими делами, но в этой будничности некоторые жесты и слова свидетельствуют о взаимной любви, прошедшей сквозь годы.
Когда мы любим, нужно любить вот так — до конца, до предела.
Определенные детали говорят также об усталости, о медленно тянущихся днях, о скуке, о материальных трудностях, которые со временем как будто подтачивают привычную жизнь. Эти моменты не преподносятся как пророческие знаки, но участвуют в воссоздании картины ничем не приукрашенной личной жизни. Это лучшая часть фильма: выполненная в строгих декорациях квартиры, она одновременно точна и полна сдержанного величия. Ханеке не рассказывает о жизни некой идеальной, придуманной пары. Он не разыгрывает карту мелодрамы, как это делает, например, Лео Маккэри в прекрасном фильме «Уступи место завтрашнему дню». Он пытается, скорее, вызвать эмоцию, резкую и тревожную, используя эффект тишины, удушающую атмосферу помещения, грубую тяжесть всего, что окружает героев.
Затем — неожиданно — история с краном. На кухне Анна открывает водопроводный кран и внезапно отключается, перестает реагировать на что бы то ни было. Жорж пытается привести ее в чувство, потом хватается за телефон. Шум льющейся за кадром воды заполняет звуковое пространство, а потом внезапно прекращается. Пауза. Возвращение на кухню: Анна пришла в себя, как будто ничего и не было. В этой важной сцене льющаяся вода противопоставлена внезапной обездвиженности Анны: текущая вода на какой-то момент как будто замещает течение жизни в теле и в квартире. Кран — хичкоковская деталь, которая захватывает нас и резко переводит во вторую часть фильма. Эта деталь выступает в качестве модели повествования, которое в дальнейшем будет продвигаться вперед не без насильственных действий: зрителя взяли за горло и назначили ему роль уже не сопереживающего немого спутника персонажей, но гораздо менее завидную — привязанного к стулу свидетеля, вынужденного терпеть все происходящее.

Анне становится все хуже и хуже. Один удар, а потом другой приводят к параличу, приковывают ее к постели. Она отказывается ложиться в больницу. Жорж, как любящий муж, принимает ее требование, потому что больница — это смерть еще до смерти. Но он примет не все и по мере того, как она теряет разум, начинает заговариваться, страдает, стонет, делает невыносимой жизнь мужа, превратившегося в сиделку, он выстраивает вокруг себя стену непримиримости, и фильм властно требует от своего зрителя, чтобы он без возражений принял все это за любовь. Когда мы любим, нужно любить вот так — до конца, до предела. Единственный образец любви — это сила, жесткая, ворчливая, добрая и чудовищная сила Жоржа. Все остальное — отвратительно и порочно (или — говоря языком Лефора — недостойно). Любовь дешевая, неполноценная.
Когда мизантроп Ханеке протягивает вам одну руку, другой он дает вам пощечину.
Анна была красавицей, играла на фортепиано, теперь же она старуха, инфантильная и деспотичная. Ханеке удается вывести зрителя на свою обычную тему: невыносимость. В течение долгих минут Анна хрипит в постели: «Больно… больно… больно…». Жорж больше не может, мы больше не можем, а хрипы не прекращаются: «Больно… больно… больно…». Он хочет, чтобы она замолчала, мы хотим, чтобы она замолчала — «больно… больно… больно…» — замолчит она наконец? Сцена мучительная, тупиковая — «больно… больно… больно…» — как пытка хеви-металом, когда вы готовы согласиться на что угодно, лишь бы это прекратилось. И вот, когда Анна капризничает и Жорж дает ей пощечину — предполагается, что это мы управляем его рукой. И когда в момент передышки он прижимает к ее лицу подушку, это последний — всем приносящий облегчение — удар: Ханеке дает нам то, что мы хотели, — тишину. Он сталкивает друг с другом эмоции, чтобы скорее их уничтожить и чтобы уж наверняка добить своего зрителя.
Уточним: мы не обсуждаем здесь решение персонажа закончить все именно таким образом (равно как и не высказываемся за или против эвтаназии) — речь идет о том, как Ханеке использует в фильме этот жест и каким смыслом он его наполняет. «Добрые души» и фанатичные охотники за дураками скажут, что это любовная сцена — всё, точка. Сказать так — значит из любви к соглашательству и склонности ломиться в открытую дверь (трудно же не признать за Жоржем права прекратить столь сильные страдания) пренебречь неоднозначностью этого эпизода. Своей грубостью, внезапностью сцена намеренно ужасает: она происходит в один из редких моментов спокойствия, которому режиссер не дает закончиться, и снята она так, что это больше походит не на последнее объятие, а на самую настоящую казнь, уничтожение другого человека — чтобы заставить его замолчать. Эффект гарантирован: за несколько мгновений мы проходим путь от умиления к спазмам удушья. Ханеке играет на усилении и ослаблении напряжения: «Любовь» — «забавная игра», которая не называет своего имени. И разделяем мы или нет режиссерский замысел, мы можем только признать исключительную способность автора снимать насилие как молнию, как брызги грязи, которые вдруг вырываются фонтаном и покрывают вас, внезапно блокируя ваши мысли, лишая вас способности что-либо делать.

Ханеке беспокоится о морали, но находит ей не лучшее место (пример сцены со спущенными трусами в этом отношении необычайно показателен). Он отвергает все, что считает чувствительностью, потому что он плохо понимает чувства зрителя, которого он, как ревнитель нравственности, осуждает, не оставляя ему ни малейшего шанса. В действительности, по причине своей мизантропии, он представляет своего зрителя как некий застывший субстрат дурных страстей, который нельзя расшевелить, кроме как пуская в ход пощечины. Он представляет его как нечто монолитное, что-то вроде «мономорфного извращенца», подчиняющегося неизменным эмоциональным механизмам. Этого воображаемого зрителя он приводит к себе самому, чтобы исправить. Такова роль двух «невыгодных» персонажей — дочери и медсестры. Первая хочет быть полезной, доброй советчицей, она плачет (никто не плачет так гениально, как Изабель Юппер), а Жорж резко обрывает ее, и он прав, раскрывая то, что прячется за слезами: неуместную жалость. Вторая занимается Анной с унизительным и фальшивым профессиональным вниманием, обращается к ней как к слабоумной. Жорж отказывается от ее услуг, и, как всегда, с неизбежностью мы должны признать, что он прав: сцена позволяет зрителю радоваться, что он — зритель — таким образом, оказывается на стороне правды, пусть даже ценой оскорблений, которые медсестра бросает в лицо и герою, и ему самому.
Убийство Анны выполняет еще одну функцию, помимо управления зрительскими эмоциями с целью как можно успешнее их нейтрализовать. Эта пара — отнюдь не зря любящие музыку, образованные представители буржуазной элиты: Ханеке не прочь разоблачить то, что скрыто за жизнью пианистов, будь то в Париже или в Вене. Сцена с подушкой, снятая как избавление, освобождение и одновременно как казнь, позволяет ему протащить потихоньку, практически незаметно, знакомый разговор о движении к смерти (великой) (немецкой) культуры, разговор, который он выстраивает, акцентируя мотивы обездвиженности, статики, неизменности атрибутов крупной буржуазии (фортепиано, библиотека словно застыли навеки в своем тревожном классовом покое). Он делает это с серьезностью и с типичной уверенностью кинематографа QED («что и требовалось доказать»), замкнутый в своих убеждениях, неизменно радикально настроенный, но далекий от неутолимой и парадоксально жизнеутверждающей иронии своих соотечественников — Томаса Бернхарда и Эльфриды Елинек, прежних мастеров искусства критики по-австрийски. Ханеке удовлетворяется тем, что выплескивает молчаливый страх, притаившийся на книжных полках и среди дисков с Шубертом, в хитро снятом акте насилия и играет, как он всегда делал, на нечистой совести публики. Называя свой фильм — и это снова насилие — словом «любовь», он делает из него фильм монстров, но «монстров добрых», как Анна называет своего мужа, и не нужно быть великим диалектиком, чтобы догадаться, что добрые монстры — самые страшные. Когда мизантроп Ханеке протягивает вам одну руку, другой он дает вам пощечину. Это для вашего же блага: чтобы вы были достойны сопровождать его в охоте на чудовищ.
Перевод Екатерины Калининой
Cahiers du Cinema, ноябрь 2012, №683
Читайте также
-
Просто Бонхёффер
-
Достоевский в моем дворе — Сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе
-
«Мне опять приснилась Моника Беллуччи» — Озарения Дэвида Линча
-
«Механизация флюидов» — Из книги «Жизнь — смерть. Лицо — тело» Михаила Ямпольского
-
Два предела — Акира Куросава и русская классика
-
«Секрет секретов» — фрагмент из книги «Муратова» Олега Ковалова