Вконтакте
1. Я МОГУ ГОВОРИТЬ?
Социальная сеть. Есть в этом словосочетании
До появления web 2.0 «продолжение знакомства» было чревато какими угодно последствиями: узнать одну на миллион и счастливо жениться или — попасть в неприятную историю и долго лечиться. Социальная сеть стала идеальной подушкой безопасности. Ниточка знакомства в реальной жизни протягивается в виртуальную, где ее можно в любой момент оборвать. Социальные сети — идеальный способ сожительства с реальностью. Так прячутся на самом видном месте — чтобы точно не нашли. И, в общемто, не так уж важно, кто там, за марочкой юзерпика, скрывается. Важно, что этот
Но для свидетельства учебы в «10 Б» вроде бы не нужна ожившая классная фотография — достаточно немой, альбомной. Коллекция воспоминаний

Проект Петра Жукова и Екатерины Гавриловой Out of My Memory 1
С изобретением цифрового видео и социальных сетей у нас появилась опция максимального приближения к «другому» — при минимальном для себя риске. Участие в реальности при этом сведено к минимуму — достаточно одного рукопожатия (иногда и оно необязательно), чтобы «включить в друзья». При этом создается иллюзия, что в любой момент можно стать полноправным участником событий, буквально на полуфразе выйти в «оффлайн» и превратиться ненадолго из наблюдателя в участника. Зала и сцены не существует, «вертикаль» побеждена: для близости не нужны отношения, которые «строятся» — доступ к интимному достигается нажатием нескольких кнопок.
Но приближение
Вернуть чувство реальности не
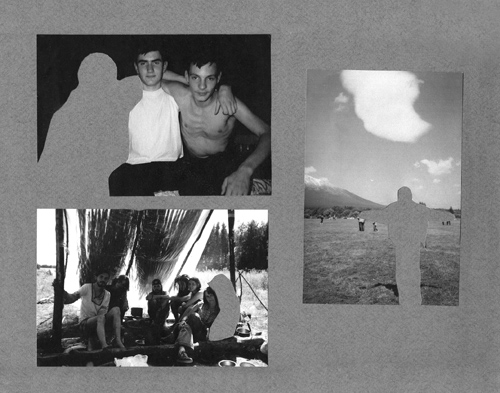
Проект Петра Жукова и Екатерины Гавриловой Out of My Memory 1
Невротическая социальная активность не только в сети, но и за ее пределами — это одновременно и причина, и следствие утраты чувства реальности. Потому что единственным действенным источником для «подзарядки реальностью» является близость. Прикосновение к «другому». Контакт.
Близость — это процесс, не имеющий технических параметров, его невозможно автоматизировать. Почувствовать «другого» становится необходимо для того, чтобы почувствовать себя. Кажется, что время отреагировало на этот запрос и поменяло ритм близости: люди «слипаются» и «разлипаются», порой не успев даже познакомиться. Близость перестала быть следствием и причиной «отношений» в силу своей самоценности. Более того, она превратилась в способ высказывания о себе и о мире (как еще сказать «я могу говорить» на языке слепоглухих?).

Сказка про темноту, 2009, реж. Н. Хомерики
В фильме «Сказка про темноту» Николая Хомерики по сценарию Александра Родионова есть эпизод сна, где героиня оказывается в доме умерших родителей и произносит: «Мам, я хочу спросить, который час. Потому что я хочу понять, сколько еще ночь продолжается». Ангелина, работница детской комнаты милиции, мучительно ищет контакта с миром, с его мужчинами и детьми, пытается почувствовать их, себя, хоть
2. ЗАБРОШЕННАЯ ШАХТА
Попытки восстановить утерянный контакт с миромглавная тема российского авторского кинематографа конца нулевых. В современных фильмах реальность оказывается системой тупиков, герои на ощупь составляют карту
Раньше легитимным выходом за границы нормы был миф о подвиге. Но героическая зона оказалась полностью блокирована — не случайно на таких «месторождениях героизма», как наука и государственная служба, основательно выработанных еще советским кинематографом, в нулевые начинают появляться призраки («Пыль», «977») и оборотни («Груз 200», «Кремень»). Шахта героизма давно заброшена, выработка не ведется.
Полюсом к мифу о подвиге был криминальный миф. В российском кино
«Бумер. Фильм второй» стал реквиемом по поколению, для которого криминальный мир был уродливым, но
Такое ощущение, что в конце

Магнитные бури, 2003, реж. В. Абдрашитов
Одержимость героев в «Магнитных бурях» символизировала их дезориентацию в пространстве, потерю обществом идентичности. Герои этой картины, днем обычные труженики завода, колотили друг друга по ночам, повинуясь
«Летом
— За кого, Маркина или Савчука, кого?
— Савчука.
— Ответ неправильный.
В пах без жалости и по голове дуплетом… рабочие рабочего».
Агрессивное, враждебное пространство — отличительная черта российского кинематографа нулевых. Оно присутствует как у Миндадзе в «Магнитных бурях», так и у Александра Родионова в «Сумасшедшей помощи». Только герои Миндадзе, избивавшие друг друга, вдруг «спотыкаются» и задаются вопросом «что все это было?» (и было ли?), а в сценарии Родионова агрессия — это серые будни мегаполиса:
“…они добили так, что Евгений с четверенек спустился на землю. И разошлись. Он остался в живых. Евгений щекой на земле видит: один мудак, который его бил, попищал брелком. Приличная машина рядом отозвалась, он открыл дверь. Он сел в свою машину с московскими номерами и уехал, и никто бы не сказал, что он грабит людей. Второй тем временем поговорил по мобильному, набрал код в доме рядом и вошел, как к себе. Взглядом выше — третий стоял на балконе. Он уже переоделся в уютную домашнюю одежду и пил из банки «отвертку».
Разница между 1999 и 2009 гг. — очевидна. То, что десять лет назад еще читалось как аномалия, теперь перечисляется через запятую, в порядке вещей. Для насилия не требуется никакой возгонки, оно не прикрыто даже маской одержимости или безумия — насилие бесстрастно, безлично и равнодушно, оно существует на равных правах со всеми остальными событиями в картине.

Сказка про темноту, 2009, реж. Н. Хомерики
Атрофия героической и криминальной зон делает невозможным рассматривать их в качестве поля для применения сверхусилий. В рамках соответствующих социальных ролей (милиционер, ученый, преступник) осуществить выход за пределы «нормы» нельзя. Поэтому с конца века художники все настойчивей вызывают лишившемуся чувств миру «сумасшедшую помощь».
3. СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ
Знакомство главных героев фильма Бориса Хлебникова «Сумасшедшая помощь» показано через прикосновение: увидев ночью в подземном переходе спящего дядьку, герой Сергея Дрейдена, инженер на пенсии, принимается растирать ладонями его ноги, слегка потемневшие от холода. Именно эта внезапная забота о дальнем становится для зрителя сигналом того, что «здесь
Деятельное участие отменяет границы личного пространства, которое объявлено одним из главных достижений современной цивилизации.
Реальность съела сама себя — спасаясь от посягательств на privacy, общество рассыпалось на множество полуавтономных капсул (см. трилогию «Матрица»), общение между которыми максимально затруднено. Но чем больше оно затруднено, тем сильнее желание контакта — чтобы окончательно не оторваться от мира, людям требуется постоянное подтверждение своей с ним связи.
На что и отреагировала реальность, открыв шлюзы социальных сетей и мобильных знакомств. Однако их появление только способствовало развитию атрофии чувств, потому что настоящая связь, подлинная близость возникают не из потребности спастись от своего одиночества, а от подлинного желания разделить одиночество «другого».
Героическая зона не исчезла — она просто сместилась из социальной сферы в интимную. Где подвиг — это не полет в космос (там холодно, пусто и никого нет), не научное открытие (мир для этого слишком технологичен), а деятельное участие в жизни другого.
Маша Беркович работает в интернате для детей с особенностями развития, от которых отказались родители. Она рассказывает о своих занятиях с детьми: «В
Маше 24 года, она волонтер фонда «Перспективы». Кажется, не случайно волонтерское движение набрало силу именно в нулевые. Паломничество молодежи в зону «других» (теперь уже действительно в кавычках, так как имеются в виду «особые
В мир «особых людей» трудно проникнуть, но его закрытость — попытка защититься от равнодушия, тогда как наш мир, наоборот, защищен от сильных чувств, проявление которых считается «неприличным». Пробиться к современнику, который живет в такой же, как и ты, капсуле, почти невозможно. Поэтому к концу века территория обитания «особых людей» активно «намагничивается» общественным вниманием. А кинематограф все чаще вызывает жителям атрофированной реальности «сумасшедшую помощь». Чтобы она приехала и сделала укол близости, поставила капельницу любви.
В фильме Жако Ван Дормаля «День Восьмой» (1996) «сумасшедшая помощь» буквально подбирает «больного» героя на дороге: случайное знакомство банковского служащего со сбежавшим из интерната больным синдромом Дауна, их незапланированная встреча в проливной дождь на пустом шоссе становится точкой опоры, которой оба героя были лишены. Генри, зарабатывающий на жизнь тренингами «как добиться успеха», переживает острейший семейный кризис и встречает Джорджа (который находится в подавленном состоянии духа

Сумасшедшая помощь, 2009, реж. Б. Хлебников
Крестовый поход за эмоциями на территорию «особых людей» предпринимают и герои фильма Ларса фон Триера «Идиоты» (1997). Молодые датчане живут коммуной и практикуют некую технику идиотизма, образуя мобильную «зону контакта» с миром. Суть этой практики заключается в том, что ее адепты посещают общественные места, где симулируют психоневрологический интернат на прогулке. Увидеть и почувствовать мир глазами «идиота», стать «другим» не в виртуальной реальности, а в настоящей жизни. Забыть о правилах приличия, вытащить все свои скрытые желания и немедленно предъявить их миру, одновременно отгородившись от него и от себя, защитившись маской идиота. Презумпция «идиотизма» в век политкорректности и толерантности до поры до времени действует безотказно. Но в конце концов герои становятся перед жестким выбором — выходить из своей «песочницы» в большой мир и проповедовать «идиотизм» как религиозную догму, следуя ей во всем, или сделать два шага назад и вернуться к опостылевшей «норме». В финале мы узнаем, что главная героиня потеряла ребенка и ее бегство в «идиотизм» — это реакция на атрофию современного мира, неспособного к сочувствию — хотя бы в силу того, что в нем нет механизма для обнаружения столь глубоких чувств. Она совершает бегство в идиотизм по той же самой причине, по которой эмигрировали в безумие сто и тысячу лет назад, — в мире всегда было сложно найти средство для притупления столь сильной боли. Но остальных практиков в коммуну привела негодность коммуникационных средств для выражения гораздо более простых чувств.
На фоне тотальной некоммуникабельности выучить язык «другого» означает сдать экзамен на
Но если в большинстве фильмов конца века о «других» существует понятие «нормы», присутствует оппозиция «мир» и «другие», то в фильме «Сумасшедшая помощь» она уже не работает. «Другие» есть, вот только мира как целого не существует. Общей реальности нет, каждый как будто прописан в своей «коробочке» с несколькими дырками для воздуха, чере зкоторые пытается наладить контакт с другим. Герои словно бы выведены за границы реальности и более всего напоминают ястреба из хрестоматийного стихотворения Бродского. Окна многоквартирных «кораблей» (кстати, один из рабочих вариантов названия фильма Хлебникова — «Забытые окна»), которые как будто бы разговаривают с героями, также далеки от них, как дымящиеся трубы домов от птицы, вытолкнутой атмосферой из дольнего мира. А их количество сообщает героям все о том же — об их одиночестве и степени отрыва от реальности. Или — об отрыве реальности? (Сравнение с «Осенним криком ястреба» можно перенести вообще на кинопрозу Родионова — и Ангелина из «Сказки про темноту», и герои «Сумасшедшей помощи», и до некоторой степени Леня в «Свободном плавании» предпринимают отчаянные попытки вернуться в реальность, но она неизменно выталкивает их, степень отдаленности реальности от героя высока запредельно.)

Сумасшедшая помощь, 2009, реж. Б. Хлебников
История, рассказанная в «Сумасшедшей помощи», — тоже история пробуждения от прикосновения к «другому». Только на месте «нормального» человека, который должен по той же сюжетной схеме «проснуться», оказывается «взрослый ребенок» (или «детский взрослый»). «Детскость» главного героя «Сумасшедшей помощи» подчеркивается неоднократно — через автомат с мягкими игрушками в продмаге, через советские детские книжки, которыми зачитывается Женя в доме сумасшедшего инженера.
Выбор ребенка в проводники — это особый способ сообщить координаты реальности. Ребенок ведь ничего не знает о том, как все должно быть на самом деле, реальность для него — то, что он видит, слышит и чувствует. А еще ребенок идеально беззащитен, не умеет держать дистанцию и мгновенно принимает правила любой игры. Похожий прием недавно использовал Терри Гиллиам в фильме «Страна приливов». Его героиня, одиннадцатилетняя
В «Сумасшедшей помощи» реальность напоминает рассыпавшийся утиный домик, из которого
«Сумасшедшая помощь» — о чуде близости. О возможности подлинного контакта с другим, вопреки логике развития современного мира. И «Свободное плавание» тоже о чуде: Леня, выброшенный реальностью в
Но чудо, показанное в фильмах Бориса Хлебникова, омрачено тем, что герои его картин — маргиналы (простодушный провинциал, гастарбайтер, сумасшедший). Чудо происходит с ними — не с нами. А так как мы видим происходящее на экране их глазами, то создается впечатление, что мира как целого не существует — есть лишь некое агрессивное пространство, и оно пугающе непредсказуемо. В нем все настолько сломалось, что даже сыграть в детскую игру, например в «Что лишнее?», не получается: старые правила не работают, и лишним может быть что или кто угодно — реальность образовала новые цепочки смыслов, не оповестив нас об этом. Поэтому самые простые вопросы ставят нас в тупик.
4. ЧТО ЛИШНЕЕ?
Леша я или не Леша? — вопрос, которым задается герой фильма «Шультес» Бакура Бакурадзе. У Леши Шультеса в результате автокатастрофы произошла потеря кратковременной памяти.
Само ремесло карманника предполагает близость с жертвой, но эта близость обманчива и опасна. Вот эпизод: у героя умирает мать, и Шультес идет в баню. Мужской мир: парилка, пиво, креветки; очередной распаренный «лох», расслабленный
«Леша я или не Леша?» — рингтон с этой песенкой перекачивает на мобильный Шультесу его напарник, воришка Костик. Снова, как и в «Сумасшедшей помощи», рядом с

Шультес, 2008, реж. Б. Бакурадзе
Настоящий укол близостью Шультес получает в реанимации, где встречается со своим другом (громко сказано; как будто у человека без прошлого могут быть друзья). На операционном столе Леша неожиданно для себя узнает женщину, француженку, недавно обокраденную им в метро. Женщина лежит на том же месте, где год назад был Шультес (а может, его жена, погибшая в автокатастрофе?). Она мертва. Картинка из прошлого «наплывает» на картинку из настоящего, пазл собирается сам собой, и Шультес «просыпается». Совпадение контекстов — прошлого (реанимация) с настоящим (француженка) возвращает герою память, а вместе с ней — травму, от которой он почти счастливо бежал в беспамятство.
Но окончательное соединение прошлого с настоящим происходит в момент просмотра Шультесом видеозаписи любовного послания, оставленного француженкой неизвестному русскому любовнику. Именно это видео заставляет его вернуться к собственному прошлому, достать коробку с фотографиями. Вспомнить все. Нет сомнений в том, что свой настоящий побег, самоубийство, Шультес придумал именно за просмотром этой видеопленки. Как нет сомнений и в том, что именно экран дал возможность ему УВИДЕТЬ другого. Почувствовать свою связь с миром. Чтобы, почувствовав, сразу же ее разорвать.
Видео как способ почувствовать другого было манифестировано в дебюте Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео» — «иронической притче о современном человеке, отчужденном от самого себя и от своих близких и потому катастрофически нуждающемся в посреднике» (А. Плахов, «Искусство кино» № 7, 1992). В финале герои, которым помогла сблизиться видеокамера, выключают ее, чтобы заняться любовью. Видео выполнило функцию посредника, помогло двум людям, запутавшимся в себе и в мире, найти друг друга, преодолеть страх другого — и на этом его роль заканчивалась. Экранные откровения, записанные героем на пленку, давали ему иллюзию интимного погружения, симулировали близость с миром, но видео не должно было присутствовать при рождении подлинного чувства.
Гениальность фильма Содерберга заключалась в самом названии: он просто поставил три главных синонима подмены близости — секс, ложь и видео — в один ряд. Но видеоэкран еще и создает иллюзию безопасности, которую не способна обеспечить «живая» реальность даже с самой невинной ложью и самым безопасным сексом. А скрытая камера еще и добавляет иллюзию достоверности. В российской реальности нулевых экран стал, наверное, самым доступным проводником в мир: скрытые камеры
Благодаря кнопкам «пауза» и «стоп», другие больше не могут нарушить герметичность нашего одиночества. Как аутист, нуждающийся в сопровождающем лице, живущий в капсуле индивидуум остро нуждается в
Если ад — это другие, то экран делает этот «ад» уютным, одомашнивая его. Он поддерживает иллюзию нашего контакта с миром так же, как поддерживают жизнь человека, впавшего в кому. Но вместо полноценной жизни — поддержание жизнедеятельности.
Есть ли способ выйти из этой комы, если чуда не случится и «сумасшедшая помощь» не подоспеет вовремя?

Шультес, 2008, реж. Б. Бакурадзе
Вернемся к «Шультесу».
Человек ниоткуда вставляет






