Джон и Джекки
Нам долго внушали, что капитализм стар, дряхл и уродлив, что дни его сочтены. Но с малоформатных экранов наших «Темпов», сияя улыбками, глядела на нас самая молодая и обольстительная пара мировой политики, словно сошедшая с лакированных обложек «Лайфа» и «Вога», возникшая из спецхрановской тьмы запретов, умолчаний и откровенной лжи. Кеннеди пришел после Эйзенхауэра. Молодой офицер Второй мировой войны сменил старого генерала. Вперед к «новым рубежам», к миру без войн, к жизни без ненависти — религиозной, классовой, расовой и любой… И этот его знакомый жест правой руки, колотящей воздух. Вся патетика индивидуальной воли, вся патетика победительной силы, вся патетика ликующей молодости была в этом жесте.
Его нельзя было представить в роли благовоспитанного семьянина, прилежного налогоплательщика и владельца недвижимости — его лицо, его облик указывали на особый характер, словно специально созданный для великой борьбы и трагических испытаний. Но тогда мало кто об этом догадывался. Напротив, многим казалось, что эра Кеннеди будет долгой, очень долгой. Его предвыборный президентский марафон — какая-то бесконечная ликующая массовка. Кеннеди все время в потоке, стремительном, переменчивом, но не враждебном, не опасном.

…А вот он один. У воды. В черном пальто с поднятым воротником. Он как будто не слышит бурного разлива, не замечает кипящей волны, бьющейся у ног. «О Господи, море твое велико, а челн мой так мал» — надпись на металлической пластинке письменного стола в Овальном кабинете. Кеннеди был из породы мужчин, которые навсегда остаются мальчишками. Его спиннинги, его клюшки для гольфа, его тонкие сигары, его качалка с твердой спинкой, его невозмутимый ирландский юмор, его безупречный пробор — шедевр парикмахерского искусства — все это вместе, растиражированное на миллионы копий, сотни изданий, тонны сувениров, открыток и никелевых пятидесятицентовиков, составляет и по сегодняшный день эталон неотразимой мужественности, сотворенный большой политикой и отданный ею в жизнь.
А она? Какой видится Джекки сейчас на расстоянии в тридцать лет? Всегда отдельно. Всегда в перчатках. Сама по себе. Что-то затаенно-хищное проскальзывает в ее облике — в чувственном изгибе рта, в широко расставленных невозмутимых глазах, во властном очертании подбородка. Напряжение, скованность, несвобода искусно маскируются безупречными манерами, безупречными туалетами. Так выглядят женщины, которых мало любят или не любят вовсе.
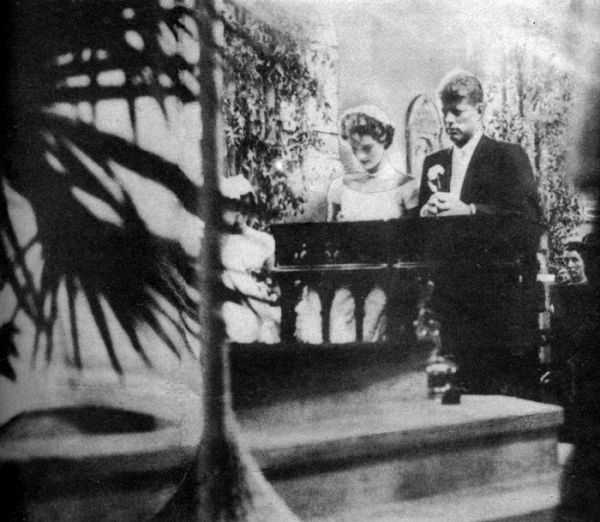
История Джона и Джекки остается не менее загадочной, чем история его убийства. Она любила французскую кухню, классическую музыку, русские романы, верховую езду. Он предпочитал гамбургер на скорую руку, колу прямо из бутылки, рокочущего Френка Синатру. Он изменял ей со множеством женщин, а она старалась не задерживаться в Белом доме, все время куда-то уезжала. Но игра в идеальную пару им удалась на славу. Их любили с восторгом, нежностью и надрывом. Может быть, еще и потому, что в их независимом, победительном облике угадывалась неясная грусть обрывающейся линии жизни. «Как бы ты предпочел умереть?» — спросил его кто-то из близких незадолго до смерти. «От пули. Ты так и не узнаешь, что тебя сразило. Пуля — наилучший способ». Мы все хорошо помним, как это произошло. Очень заезженные кадры: синий президентский «линкольн» с открытым верхом, мотоциклисты в шлемах, сухой речитатив выстрелов, крик Джекки: «Нет, нет, Джон!», мелькание ее локтей и розовой шапочки, тренированный прыжок охранника на багажник… Потом только Арлингтонское кладбище и маленький мальчик, отдающий последний салют удаляющемуся похоронному кортежу. Джон — Джон. Теперь он уже совсем взрослый. Тридцатилетний. У Каролины — две дочки. Роз и Татьяна. В «Пари-матче» недавно были напечатаны фотографии, где Джекки гуляет с ними в Сентрал — парке. Одинокая стареющая леди со своими внучками на фоне осенней листвы и небоскребов Манхэттена.
Гуд бай, Джекки! Живите долго.






