Презентация «Воображаемого означающего»
Любить кино и говорить о кино. — Социальное измерение.
Ну что же… Давайте приступим к разговору, который, конечно, можно назвать и лекцией… Но, скорее, я озвучу определённые соображения, навеянные текстом книги, и, как я полагаю, близкие автору. Перед нами ведь не стоит задача конспективно изложить всю проблематику текста — мы лишь соприкоснёмся с некоторыми идеями, которые содержатся в книге Кристиана Метца «Воображаемое означающее: Психоанализ и кино».
Очевидно, что этот текст к русскому читателю опоздал. Мы уже частично знаем его по вторичным источниками и по множеству цитат. И, безусловно, он несёт в себе следы своего времени — приметы господства семиотики и элементы того дискурса, где процветали Кристева, Тодоров и, заодно, Тартуская школа. (Времена слегка подзабытого дискурса, который постепенно становится частным делом каждого.) Но, тем не менее, прелесть этой книги состоит в том, что она имеет форму свободных размышлений, что она очень разнородна, сложно схематизируема и написана с любовью. Тем более что глагол любить постоянно в ней используется, а любовь к кино является одной из важнейших тем всей книги. Книги в достаточной мере необычной.
Необычность её состоит в том, что речь никогда не идёт об отдельных фильмах. Метц говорит, что когда мы отстаиваем один конкретный фильм или одного конкретного режиссёра в ущерб и противовес другим, то делаем это так же, как любим определённую женщину. А это предполагает способность к любви вообще. При этом любовь к кино как к иллюзиону и к зрелищу иногда воспринимается нами как само собой разумеющееся — как не акцентируемый фон. Но решающим образом это начало и является значимым.
Здесь можно вспомнить цитату из «Похвалы плохому шоколаду» Москвиной: «Мне уже исполнилось десять лет, когда я впервые узнала, что бывает плохое кино. До этого момента такое сочетание казалось мне несовместимым. Оказалось, что оно всё-таки бывает». Поэтому для начала чрезвычайно важно понять не то, что означает анализ конкретных фильмов, или откуда берётся такой тип дискурса как кинокритика, а выяснить, что означает этот модус восприятия и модус желания, который в свою очередь разделяется на несколько важных составляющих: ходить в кино, смотреть фильм, говорить о кино.
Ведь даже само понятие говорить о кино является далеко не простым. Множество наших дискурсивных программ связано с тем, что, случается, мы говорим о кино. Но почему мы это делаем? Это не совсем понятно. Если отрешиться от всех форм случайной посторонней нагрузки, которые связаны с идеей фильма, и вернуться к фильмическому состоянию (термин, который сам Метц сравнивает с онирическим или сновидческим состоянием), то окажется, что история могла распорядиться иначе.
Дело в том, что в какой-то момент к иллюзиону братьев Люмьер привесили социальный смысл. Сейчас трудно сказать, как это произошло, но очень может быть, что это случилось в условиях некой тоталитарной эстетики. Например, в Советском Союзе так получилось, что показ фильма сопровождался показом кинохроники. А это означало повышение ранга серьёзности. Новости дня, и вслед за ними — кинофильм… Ведь фильм мог остаться частью иллюзиона, разновидностью циркового фокуса или психоаналитического сеанса, ухватывающего завитки нашего желания. Но вместо этого ему принудительно приписали социальный смысл. Теперь и режиссёр, и зритель никуда от этого не денутся — такое приписывание означает, что с этого момента мы ожидаем, что кино расскажет нам что-нибудь о мире. Например, кино объяснит нам, как плох расизм, или мало ли что там ещё… Мы к этому привыкли и привычным образом ожидаем зрелища в кинотеатре, хотя должны себе представлять — этого могло и не быть. Теоретически возможна цивилизация, где движущееся изображение осталось бы на уровне следящих телекамер. Например, мы заходим в супермаркет и видим, как мы туда зашли, — в принципе, функция движущегося изображения могла бы этим и ограничиться… Или пойти другими странными путями. Или остаться в тех же категориях иллюзиона. Но случилось иначе. Кино стало важнейшим из искусств. (Вероятно, сначала в Советском Союзе и в Германии, затем — в Голливуде и во всём мире.) И режиссёр, тогда ещё не понимавший, почему от него столько требуют, постепенно свыкся с этой идеей самозванства и принял её как нечто должное. В результате, социальное измерение кино сегодня, как правило, не подвергается никакому сомнению. Никто не пожимает плечами. Мы пожимаем плечами только в том случае, если сталкиваемся со слишком навязчивой ангажированностью…
По большому счёту, всё это стало возможным лишь потому, что феномен движущихся картинок изначально реализует некоторую форму желания, знания и восприятия. Кино возникает как чрезвычайно разнородный феномен, сложившийся из нескольких различных и не связанных друг с другом элементов. Примерно так же был необходим пятый элемент, чтобы сезам открылся и сущность сработала. Как эти элементы могли сложиться, остаётся загадкой. Для Метца это и является основанием сравнения кино с любовью и эротическим влечением — здесь он называет его скопическим влечением.
Приведу одну цитату, которая кажется мне очень важной. Она отсылает к идее Фрейда о трудности всякой настоящей чувственной любви с её хрупкими сексуальностями. Нам прекрасно известна возможность любых форм девиаций, но то, как возможна нормальная сексуальность (которая всё-таки случается), всегда остаётся загадкой. То же самое происходит и с кино. Вот, что пишет Метц:
По поводу полового акта Фрейд отмечал, что его наиболее распространённые практики основываются на большом количестве отдельных психических функций, которые, однако, работают в единой последовательности и должны, чтобы сохранялась возможность такого его осуществления, которое считается нормальным, все оставаться исправными. (В случае невроза или психоза связь между ними оказывается нарушена, а некоторые из них выходят из строя, в результате чего становится возможна своего рода коммутация, благодаря которой психоаналитик задним числом может их выявить каждую по отдельности.) Акт просмотра фильма, внешне весьма простой, не составляет исключения из этого правила.
Как мы видим, сопоставление фильма и полового акта проходит по параметрам критической массы реалий, необходимых для того, чтобы чудо свершилось. Действительно, очень часто оказывается, что так называемая теория кино и различные объясняющие дискурсы оказываются мнимыми — они исходят из вторичной интенции говорить о кино. Говорить о кино — это тоже форма желания. Но если смотреть фильм означает реализацию или задействование скопического влечения (которое само по себе разнообразно и многогранно), то говорить о кино сразу же даёт нам целый спектр различных дискурсов — начиная от дискурсов, носящих вторичный эротический характер (например, объяснить друг другу, какие фильмы мы предпочитаем, — это разновидность вторичного объяснения в любви), и заканчивая необходимостью что-то о нём сказать, поскольку перед нами сама реальность воображаемого. По сравнению с ней множество вещей и ситуаций реального мира кажутся совершенно ничтожными — наша жизнь проходит среди этих проекций и среди этих теней, как среди глубокой и яркой реальности, — поэтому как же об этом не говорить…
Но сказав а, ты должен говорить и бэ. Признав или не признав, что ты любишь кино, ты должен выбрать какой-то один фильм среди многих и отличить его от других. Или ты можешь его разлюбить и полюбить какой-то ещё. То есть здесь испытывается некоторое дискурсивное приключение, благодаря которому возникают журналы с кинокритикой и киноклубы, которые на самом деле являются формами обмена вторичными желаниями. Но сам этот обмен действенен и реален только потому, что существует некое первичное желание или знание, — только потому, что актуализируются глаголы смотреть кино и любить кино, потому, что мы можем испытывать к нему это удивительное скопическое влечение или дистантную тактильность, как очень удачно выражается Метц в другой своей книге.
Дистантная тактильность сродни эротическим прикосновениям. Она обладает всей масштабностью контактного переживания, но при этом остаётся дистантной. Это некое маленькое чудо, и никакое эротическое сравнение здесь излишним не будет. Если мы вспомним классический анекдот, в котором на вопрос: «Любишь ли ты помидоры?» мы слышим ответ: «Есть люблю, а так не очень», то поймём, что в случае с кино такой ответ не годится. Этот вопрос — прямой: «Любишь ли ты его?», «Любишь ли ты её?», «Любишь ли ты кино?»… Это совершенно однородные вопросы… Скопическое влечение составляет не меньшую форму чувственной целостности, чем любовь к реальному и живому другому. Собственно говоря, помидоры здесь не при чём…
Смотреть кино. — Уникальное раздвоение. — Безопасный полигон восприятия. — Страсть раскрытия.
Одновременно, в этом же смысле, кинозрелище представляет собой форму знания — некий полигон восприятия или синтез восприятия, который сопоставим с восприятием всего внешнего мира как находящегося вне нас — мира, обладающего свойствами внеположности и вненаходимости. Это принято называть психофизической проблемой. Каким образом мы видим окружающие нас вещи, находящиеся вне нас и составляющие объёмность объективного… Каким образом мы можем занимать их места, когда мы на них смотрим, и сохранять диапазон константности восприятия… Это кажется всегда неким удивительным чудом. (Хотя современная квантовая механика, введя концепции скрытых или свёрнутых пространственных измерений, в сущности, эту проблему решила, и теперь она, пусть и оставаясь в своей актуальности, оказывается не такой уж чудесной, как могло показаться.)
Мы можем десантировать себя в жизнь, происходящую на экране, и, одновременно, предъявлять эту жизнь проживанию. Быть может, это оказывается более значимым и более ярким чудом — чудом множественности идентификаций. И мы понимаем, что на самом деле приключения обычного кинозрителя — нечто более удивительное и фантасмагорическое, чем приключения любого киногероя. То, что происходит со зрителем, достойно высочайшего удивления.
Если социальный смысл или социальная нагрузка может быть рассмотрена как форма application (чего-то, приписанного киноискусству извне), то психологизм составляет саму суть кино. Вслед за изначальным удивлением по поводу иллюзиона братьев Люмьер сам собой приходит психологизм — приходит как среда, регулируемая кинопроцессом и скользящим лучом воображения, которым мы передоверяем самих себя и наши собственные способы идентификации.
Рикёр (которого пару раз цитирует Метц) в одной из своих работ говорит о том, что чрезвычайное удивление вызывает наличие неатрибутированных подвешенных психологических состояний — некий психологический континуум. Это значит, что есть желание, гнев, досада, смущение — но не в форме моего желания и моего смущения, а в форме некой удивительной реальности, которая неизвестно где подвешена и неизвестно где существует. Но эти подвешенные фрагменты психического континуума мы можем приписать кому и чему угодно, в том числе и придуманным персонажам. Вот что в действительности достойно удивления.
Ведь первичная реальность воображаемого устроена иначе. Есть мой гнев или моя досада, есть её гнев на меня или её гнев по отношению к другим. Но гнева как такового вообще нет. И как тогда можно его получить? Каким образом можно совершить это удивительное абстрагирование, отказавшись от всех персонификаций со всеми персональными дистрибуциями, и наделять этими способностями и психологическими состояниями любые существа во сне, а в особенности — на экране… В этом больше чудесности, чем во внеположности и во вненаходимости вещей, которые мы воспринимаем.
Это чудо не объяснить ничем, кроме странного знания, которое мы обретаем на полигоне восприятия через сновидческие, а затем и через фильмические состояния, которые в известном смысле существовали и до кинематографа, — кинематограф лишь их упорядочил и объективировал. Практически нет никаких сомнений в том, что если когда-нибудь эти загадочные учёные научатся транслировать для всех желающих сны, мы разведём руками и скажем: «Мы это давным-давно уже видели». Понятно, что к этому времени кинематограф заполнит весь висячий сад сновидений и фрагментированные ростки воображения будут заимствованы как отдельные картинки — совершенно точно, это уже прорабатывается в фильмическом состоянии.
Всякий раз мы абсолютно свободно совершаем туда вылазку и не удивляемся тому, что мелькнувший перед нами персонаж (благодаря нехитрой экспрессии, определённым действиям, ракурсам, раскадровке, игре света и тени) очень легко наделяется практически любым, сколь угодно сложным рессентиментным состоянием из числа тех, которые не атрибутированы, а подвешены в этом психическом континууме. Дело доходит до того, что мы можем никогда не видеть это существо в действительности, но у нас есть идея детскости, — и если нам покажут детёныша Чужого или динозаврика, мы безошибочно определим, что это детёныш. Хотя бы даже это был бы детёныш Вселенной. В мультиках, например, можно сделать автомобильчик, и понятно, что это мальчик-автомобильчик или девочка-автомобильчик. Но почему это понятно, опять-таки непонятно… Но это так.
Это то самое ежедневное чудо, которое мы извлекаем из элементарнейшего кинопросмотра. Когда, вроде бы лениво и лёжа на диване, совершаем этот акт множественности идентификаций вслед за проекционным лучом и чрезвычайно легко десантируем себя в мир мифической реальности, в котором мы страдаем чужими страданиями, досадуем чужой досадой, но при этом остаёмся самими собой и успеваем представить себя как многоместный предикат. Быть одновременно здесь и не здесь, продолжая лениво лежать на диване или сидеть в зрительном зале. Почему-то это ни у кого не вызывает удивления, хотя все виды нуль-переходов, аннигиляций и чёрных дыр — сущая ерунда по сравнению с удивительными и фантастическими идентификациями, которые мы совершаем всякий раз, доверяясь влечению кино… Доверяясь иллюзиону кино, который, собственно говоря, иллюзионом и остаётся.
Метц разворачивает простейшую геометрию взгляда. Мы сидим в зрительном зале. На экран спроецирован лучик света — тот самый скользящий луч воображения. Мы отождествляем себя со взглядом кинокамеры и проектора. Но одновременно мы отождествляем себя и с тем, что происходит на экране. Как если бы мы смотрели сон, где существует закрытый и герметичный экран воображения, на котором нечто показывают. Другими словами, сразу же происходит некое уникальное раздвоение. Вот — я как зритель — я собран в своём теле, и в моей телесности помещён центр исхождения моего эго, моего эгона. А там — киногерои. Это не я, это другие, и мне лишь предстоит наблюдать за их перемещениями и приключениями, и я это делаю. Но в какой-то момент я понимаю, что они другие не совсем. Один из этих киногероев — это тоже я. С удивлением я обнаруживаю себя в нём. Затем, в момент обнаружения, происходит сбой и я возвращаюсь к самому себе. Но если фильм меня увлекает, то я могу снова стать этим бравым коммандос, или несчастным влюблённым, или хотя бы даже крестьянином, собирающим виноград.
Понятно, что мы тут же можем вспомнить квантовую механику и принцип неопределённости Бора-Шрёдингера, согласно которому каждая квантовая реальность является либо волной, либо частицей, но ни тем, ни другим вместе взятым. Примерно такая же осцилляция происходит в момент, когда мы смотрим на экран, — тот же самый квантовый переход плюс другие фазовые переходы. Либо мы смотрим и снисходительно скептически оцениваем: «Так-так, что мне сейчас покажут», — здесь дистанция возможна. Либо мы самозабвенно теряем себя — тогда оказывается, что изнутри героя мы пылаем его жаждой мести, вслед за ним, пока у него вызревают гроздья гнева, тоже присоединяемся к этому вызреванию и ждём: «Когда же последует месть?». Либо то, либо другое. Но это в квантовой механике не возможно ничего третьего. В кинопросмотре — запросто. Одновременно мы можем и смотреть на себя со стороны, и присутствовать в этих удивительных идентификациях. Степень трансцендирования здесь несравненно больше и обширнее, и она даётся нам гораздо легче, чем та, которая происходит на уровне пресловутого микромира.
В этом случае мы и вправду видим, как кинематограф в качестве иллюзиона становится модусом знания, модусом знающего и умного восприятия. И в принципе, этого нельзя не любить. Этого нельзя не любить хотя бы потому, что мы обретаем такую степень свободы присутствия, свободы идентификаций и приключений, какую нам больше ничто не даст.
Скопическое удовольствие — удовольствие от сложной многогранной игры света, от бликов, от того, что мы путешествуем по подвешенному неатрибутированному психическому континууму и очень легко всё узнаём, — оказывается простой суровой реальностью, о которой не очень-то удобно и говорить. Говорить приходится о каком-то индивидуальном выборе — что мне нравится, а что мне не нравится. А само это удивительное чувство… Ну, оно есть — и слава Богу. Что же по его поводу восхищаться? Как по поводу радуги… Просто радугу Бог не каждый день показывает… А с фильмом мы имеем дело гораздо чаще. Но степень его чудесности ничуть не меньше. И это удивительное чудо всякий раз требует некоторой оценки.
Можно вспомнить, как впервые на киносеанс попал знаменитый Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб (то есть старик Хоттабыч). По описанию автора, он испугался точно так же, как первые зрители, увидевшие в
Это чувство или желание, иногда кажущееся необъяснимым, может показаться нелепым. Например, какой-нибудь режиссёр скажет: «Я хочу снять фильм о том, как люди едут на работу. Они сидят в автобусе, и камера их показывает. Вот их задумчивые и усталые лица, они едут на работу». Тогда найдётся какой-нибудь скептический критик, который возразит: «А зачем это снимать? Ты и так каждый раз видишь эти хари, когда оказываешься в общественном транспорте. Зачем они тебе? Зачем тебе это удвоение?». Режиссёр пожмёт плечами, скажет: «Нет, ты не понимаешь», сделает этот фильм, и, что самое удивительное, он будет интересен. Пускай даже это будет простое удвоение. Но на самом деле такой фильм не будет простым удвоением. Потому что в нём будет совершён целый ряд трансферов.
Мы не можем безнаказанно смотреть на лица встречных, мы не можем их разглядывать, если они не прошли сквозь стену, если они не воспроизведены перед нами лучом воображения. Мы чувствуем некую опасность — нельзя смотреть в упор. И даже если мы это делаем, то всё время, ожидая худших последствий, держим круговую оборону от мира. Теперь, когда перед нами лица наших соседей, едущих на работу, наших коллег, мы можем неторопливо, внимательно и даже любовно разглядывать. Мы испытываем чувство сродни чувству самого Бога, присутствующего в смертных телах. Это парадокс Августина. Он говорит: «Я успешно преодолел в себе тягу к похоти и мошенничеству. Но когда в театре я смотрю, как актёры играют мошенников, я аплодирую. Я радуюсь, если мошенник представлен мне убедительно. И испытываю сожаление и досаду, если мошенник получился не слишком жуликоватым».
Другими словами, это простое удвоение в действительности означает факт божественного проникновения. Теперь мы можем действительно смотреть, по-настоящему реализуя наше скопическое влечение — радость рассматривания, радость путешествия, трансформаций и перемещений — причём не только среди других людей, но и среди других вещей. Мы можем много раз проходить мимо фонарного столба или камня, задавая себе буддийский вопрос: «Что я вижу?», но видим его по-настоящему только после того, как передоверим наш взгляд взгляду кинокамеры, когда будет снята защитная плёнка. Аристотель говорил, что природа любит скрываться, когда ещё не было кинокамеры. Но кинокамера учитывает эту странную любовь природы и противопоставляет ей контрвлечение, влечение раскрытия, возможность рассматривать. Рассматривать простые вещи, лица, смены планов. Это то, что нам никогда не наскучит, и в чём мы никогда не решимся себе признаться, потому что это какое-то ребячество и детство.
Подумаешь, смотреть на движущиеся тени или на статичные предметы. То ли дело извлекать смысл третьей или четвёртой степени. То ли дело прочесть аллегорию, скрытый смысл притчи. Здесь и возникает дискурс кино, в котором можно друг с другом посостязаться и заработать репутацию умного человека, знатока. А если просто смотреть на предметы… Но если бы не было этого скопического чувства, то не было бы ничего остального. Это первичная данность, от которой сами по себе растут все ризоматические отростки других дискурсов и других форм желания.
Всё то, что испытывает влюблённый — страсть разглядывания, вуаеризм, эксгибиционизм, — присутствует в любом кинозрелище как нечто очевидное, дополняющее или замещающее, но в значительной степени реализующее не столько заложенный эротизм, сколько эротизм самого сущего. (Это Метц очень внимательно анализирует.) Здесь возникает новое измерение сущего и происходящего, связанное с новой быстрой расстановкой всего подвешенного неатрибутированного психического континуума. Другими словами, идёт некая форма присвоения психики.
Не очень понятно, как это осуществлялось, когда возникло само кино и скачковый барабан изобретения братьев Люмьер. Но это каким-то образом происходило благодаря внутреннему кинематографу. Который, видимо, соприроден данности самого сознания и данности различения психических очевидностей. Фрагменты речи влюблённого присущи кинозрителю в случае, если он отдаёт себе честный отчёт. В том случае, если он сохраняет способность маленького мальчика впервые восхититься и очароваться движущимися фигурами — ту способность, которая в начале исчерпывала собой кинематограф.
Эти люди пришли сюда не только сквозь стену, они пришли сюда сквозь время. И не просто пришли, а принесли с собой жизнь. И когда я смотрю даже не на паровоз или скачущую лошадь, а на дачную веранду, где стоят цветы в вазе, а ветерок вдруг качнул занавеску, занавеска зашевелилась, и вместе с этим возникла некоторая магия того, что передо мной раскрылось новое измерение восприятия, которого не было прежде. Я могу переселиться туда, и вести там свою приключенческую насыщенную жизнь, а потом ещё и говорить об этом, а потом ещё и вновь туда вернуться. Конечно, все восторги можно оставить при себе. Но сам этот трансфер, чрезвычайно близкий к эротической траектории желания, остаётся не только формой единичного желания, но, вероятно, и модальностью желания вообще. Фильмическое состояние органично сопряжено с онирическими или сновидческими состояниями и трансформациями, способами воплощения в других смертных, которые мы так легко реализуем посредством соответствующих ходов.
Обретение полноты субъектности. — Потенциалы кино.
Метц, избегая демонстрации киноведческой эрудиции и не интересуясь отличиями Годара от Трюффо или Гринуэя, исследует фоновый уровень, который незаметно сам по себе меняется. Каждая совершённая трансформация приводит к тому, что мы уже ей обладаем. А то, чем мы уже обладаем, не может вызывать ежедневное удивление. Удивление всегда вызывает прибавка или нехватка, которую нужно компенсировать. Поэтому в какой-то момент нам становится мало движущегося паровоза, мало того, что мы прошли сквозь стену и сквозь время. Нам становится нужна дигитальность, интрига, рассказанная история.
И теперь мы можем произвольно выбирать из различных состояний, форм и завитков воли к фильмическим состояниям те, которые сейчас нам желанны, а скорее даже те, которые одобрены и санкционированы в качестве достойного предмета разговора. В какой-то момент это, например, авторское кино и исследование глубины психологизма или особенности киноэстетики. Тем самым из множества фильмов выдвигается один их тип, который соответствует не желанию смотреть кино, а желанию говорить о кино… Скорее даже форме этого желания, санкционированной в данный момент в качестве господствующей теории. Понятно, что эти теории быстро сменяют друг друга, но всегда приходится держать в уме или в форме самоотчёта изначальное желание.
Метц вслед за Лаканом говорит: «Есть стадия зеркала, и без этого простого оптического эффекта обретение полноты человеческой мерности невозможно». Должен свершиться этот первичный иллюзион зеркала, когда ребёнок видит самого себя в зеркале и понимает, что «это я», и в то же время «я, которое в этот момент себя видит». Это чудо нельзя примирить логическим способом, и именно в силу этого оно образует психическую реальность. Затем реальность грёзы и воображения, разворачивающаяся на киноэкране, задаёт нам новое измерение переходов, и они очень быстро совершаются, присваиваются.
Очень важно не пропустить первый этап. Возьмём, например, человека, который не приобщился с детства к комиксам и только лет в тридцать-сорок стал их изучать. Для него книги комиксов окажутся крайне сложны. И он будет долго ломать голову, как же можно непосредственно этим увлечься как приключением. И он будет удивлён, что его шести-семилетний ребёнок с восхищением их листает и на лице у него всё написано. Он читает её как данность, потому что в данном случае это тоже некоторая микростадия обретения новых измерений, измерения желания, которая не пропущена и воспроизведена. А феномен кинематографа, великий иллюзион, даёт их во множестве. И психоаналитический анализ, и психологический анализ, и анализ феноменологии восприятия как киновосприятия показывает нам, что сегодняшнее обретение полноты субъектности и мерности человеческого бытия теснейшим образом связано с формами кинематографической данности. Мы в значительной мере уже переселились в этот мир и в нём живём, порой ворчим по этому поводу, хотя можно было бы удивиться и сохранить такую форму благодарности…
В какой бы конкретной ситуации мы не находились (например, в ситуации господствующего дискурса) и сколько бы не считали нужным умение различать великое кино от простого (Бергмана и Феллини от того, кто первый раз взял в руки камеру), ещё важнее отдавать себе отчёт в природе очарованности и, возможно, природе самого очеловечивания. Ведь здесь срабатывает механизм подсаживания на иглу, и поскольку мир подсел на эту иглу кинематографа, в какой-то момент соскочить с неё будет нельзя. Тогда обрушатся целые миры. Обрушится та мерность и логика восприятия, которая не строится иначе, чем через построение движущихся изображений. Оскудеют желания, поскольку они конденсируются, развиваются и проходят обкатку именно на полигонах экранов. Эти желания и есть важнейший и величайший наркотик.
Обратимся к элементарной диалектике желания, в духе греческой эпимелеи. Чего проще — сказать, что тебе хочется. Но ведь это не так просто. Потому что мы хотим то, чего хочется, а говорим то, что говорится. Для того чтобы соединить эти дискурсивные модусы, требуется определённое философское усилие. А уж тем более к той форме желания, которую разворачивает кинематограф. Там тоже, то что мы говорим, — это далеко не всегда то, чего мы хотим. Не всегда принято и доступно в качестве разговора, нам дано и инсталлировано.
Когда вдруг происходит очередной прорыв визуальности, опять возникает некая лакуна недоговорённости. Младенец или ребёнок, способный сказать, что король — голый, может опредметить чудо, на которое критики и интеллектуалы небрежно пожмут плечами, хотя тоже ему соприсутствуют. Не так давно, посмотрев фильм «Аватар» три раза, моя восьмилетняя дочка вдруг спросила: «Папа, а тебе снится турук?». Я сначала не совсем понял, о чём идёт речь. Я подробно её расспросил, и тут оказалось, что турук — это летающий дракон из «Аватара», фантастическая техника визуальности которого заставляет нас получать ту форму удовольствия — дистантную скользящую перцепцию.
Получается, что есть некий набор архетипов. Их, например, описал Башляр — «Психоанализ огня», «Психоанализ воды», «Поэтика грёзы». Эти архетипы — например, горящий в ночи костёр, вокруг которого мы сидим, — они будут всегда. И эти архетипы — например, экзистенциал дома — мы легко считываем, даже если никогда в этом доме не жили. Рядом с этим домом должен быть сад, в нём должен быть подвал, где мы встретим привидение, и чердак, где мы найдём бабушкин сундук… Как только литература предъявит нам эти архетипы, мы их тут же опознаем, хотя они могут не иметь к нашему персональному детству никакого отношения. Но они суть архетипы, и Башляр с Юнгом считали, что архетипы предзаданы. Но кинематограф их творит заново. Когда снится турук — это то же самое, что проскакать на розовом коне. Или вот — тому, кто не умеет водить, иногда снится, что он мчится на автомобиле по городу. Так техника визуальности показывает нам, как работает желание. И тут нет никакой социальной привязки — это чистая функция иллюзиона. Но эта функция иллюзиона и есть исходно первичная.
Пока она будет длиться, кино можно приписывать какие угодно значения, и разговор о кино может идти в совершенно любых направлениях, и мы можем сколько угодно замалчивать впечатления, которые не комильфо. Они слишком просты, банальны и очевидны. Они не демонстрируют нашей эрудиции и поэтому чаще остаются невысказанными. Но мы имеем дело с налаженным психическим производством — страстью к разглядыванию, подглядыванию, вуаеризму, эксгибиционизму — к этим великим эффектам визуальной машины, которая работает уже больше ста лет. И мы как существа чувствующие и желающие в значительной мере этой машиной произведены. Здесь мы имеем дело с другим типом сборки субъекта. Тот тип сборки субъекта, при котором мы представлены, опять-таки в значительной мере произведён кинематографом, кинопроектором и всей той совокупной разнородностью дискурса, которая к нему приписана.
Отсюда мы можем делать разные предположения. Например, куда дальше может пойти кино? По каким развилкам оно может устремиться? Будет ли оно наращивать социальную критику дальше и призывать к тому, чтобы мы полюбили маленького человека? Будет ли оно дальше инсталлировать определённые архетипы визуальности? Или кино станет производителем эйдосов?
Например, создатели мультика «Вольт» решали довольно странную проблему. Им нужно было найти такого щенка, который бы не был похож ни на какую конкретную живую собачку. Потому что если бы они осуществили вполне определённый выбор, множество детей бросило бы щенков не той породы и обратилось бы к тому одному, который теперь представлен в качестве воплощённой конфигурации желания. Но прекрасный образ представлен, и был тут же сброшен в форме плюшевого воспроизводства. Генная инженерия пока ещё запаздывает, но рано или поздно она кино догонит. То есть именно в кино мы видим архетип или образец живого организма. Он уже завоевал место в нашем желании и дело за генетиками. Они будут подтягиваться. Так что сброс овеществлений сегодня не составляет никакой проблемы.
Это и есть реальность желания или некоторое первичное желание, доказывающее свою важность и значимость. По сравнению с ним так называемый реальный мир более беден и скуден, потому что мы держим круговую оборону. В случае с кино мы раскрыты навстречу желанию и оно раскрыто навстречу нам.
Возможны и другие пути развития. Сейчас идёт ризоматическое ветвление кинопотоков. Трэш, бросовое кино, фильмы, снятые на камеры мобильников, — уже давно фильмы производятся, как жёлуди. Природе ведь желудей не жалко… Но эта среда генезиса порождает организмы. И рано или поздно эти организмы появятся. Они уже есть в виде некоторых проектов.
Например, так называемые медленные мульты. Это форма голографической картинки, в которой что-то происходит — например, там нарисован дворик, где стоят несколько домов. И эта картинка медленно меняется. Висит она на стене, я утром встаю и смотрю — кто в этом дворике выглянул из окна, кто куда переместился. То есть перед нами особенность новой уникальной визуальной техники, которая, быть может, ещё не реализована. Так или иначе, весь кластер возможностей содержится уже в семени кино как формы желания и как великого зрелища…
Вот то, что я хотел сказать. И, конечно же, это отчасти навеяно книгой Метца, которая, помимо этого, содержит много чего любопытного. Спасибо за внимание.
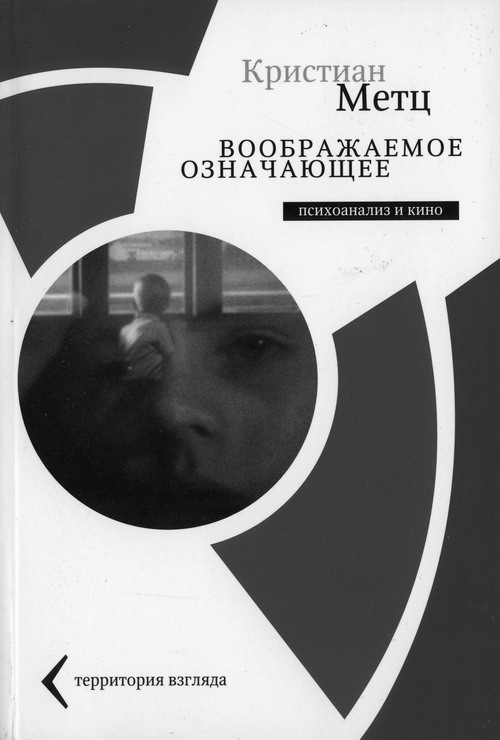
[Обсуждение]
— Я хотел сказать несколько слов о том флёре чуда, в который вы поместили опыт кинопросмотра. Для меня не столь важно то, что произошло отождествление фильмического и воображаемого — против этого трудно возражать. Но я заметил, что здесь используется определённая традиция толкования воображаемого. Это традиция, которая ставит воображаемое на высочайшую планку — она предполагает его способным на преодоление времени и пространства, восхваляет его как источник всяческого разнообразия и бесконечной смены форм.
Надо сказать, что Лакан тоже отождествляет киноопыт с воображаемым, но на воображаемое у него взгляды совершенно иные. Он, напротив, полагает воображаемое первейшим демонстратором скудости субъектного опыта как такового и показывает, к какому малому количеству форм сводится воображаемая реализация. Собственно, их всего три: идентификация, интроекция и проекция. И все эти три формы тесно связаны узлом катарсиса, который по своей сути представляет сброс напряжения и возвращение в состояние первичного гомеостаза. То есть это получение удовольствия всегда происходит одним и тем же способом. Это постыдная разрядка, которую Лакан считает прекращением желающего процесса.
И действительно, если посмотреть на обычный кинематограф, примеры которого вы приводили, всё это высвечивается с чрезвычайной ясностью. Вот фильм про мужчину, у которого убили семью, и который определённым образом мстит. Вот фильм про Супермена. А вот идеологическое кино, представляющее определённый срез критического опыта. Но это всегда разрядка одним и тем же способом. Удивительно не это.
Удивительно то, что кино, как будто бы ощущая в себе этот первичный изъян, начинает с ним активно и очень эффективно бороться. Что по сути есть опыт кино не для всех? Это опыт кино, в котором всякая разрядка запрещена. Там нет героя, с которым можно, а главное хотелось бы идентифицироваться. Там нету активного яркого действия, которое бы завершалось смертью, слезами или хэппи-эндом. Там нет ничего, что позволило бы нам пустить в дело наш обычный механизм воображаемого и получить своё прибавочное наслаждение.
Поэтому чудом для меня является не то, что кино способно задействовать упомянутые механизмы, а, напротив, то, что оно (само из них выросшее) способно им сопротивляться. Это для меня представляется более интересным.
— Мне всё-таки кажется наоборот. Дело в том, что спонтанных потоков расфокусированного воображаемого, которое ещё не является символическим, — их-то как раз и неоткуда взять. Это то сырьё, которое ничем не возместимо.
Если мы обратимся к рассмотрению воображаемого и символического вкупе с реальным у Лакана, то увидим, что статус воображаемого достаточно странный. Он плохо структурированный и, зачастую, засорённый. Поэтому воображаемое можно легко стряхнуть как наваждение.
Другое дело символическое. Оно всегда представляет собой чёткую картинку, например, архетипа. Оно вводит сырые и спонтанные потоки воображения в некую строго удерживаемую и возобновляемую картинку. Но со всеми формами такого рода дигитальности особых проблем нет. А как заставить эти спонтанные потоки воображения работать ещё? Где их взять, кроме нашей расфокусированности, когда мы идём и случайно о чём-то задумываемся или мечтаем и можем уткнуться в стенку или пропустить свою остановку, пока нас не окликнут по имени. В этот момент мы задействовали этот поток. Вот сновидения — второй поток. Третий — это кино. Больше их нет. А с производством нового символического особых проблем нет.
Да, кино всегда знает великое множество отростков. Об этом пишет и Метц. Есть документальное кино — как бы то, что происходит в реальности. Есть в кино автореферентности — фильм о том, как снимается кино. Есть многое другое. Но всё это существует лишь потому, что воспроизводится первичный поток сырого воображаемого. И кроме кинематографа и сна больше никаких источников его воспроизведения у нас нет. Это и есть величайший дефицит. А над этим дефицитом, над этой рудой и можно работать как угодно — можно запустить какое угодно символическое производство. Вместо кино мы могли бы использовать искусство цирковых иллюзионистов, но просто кинематограф лучше для этого подходит — в нём есть источник собственной спонтанной силы, который и должен вызвать наше рассмотрение. Это в высшей степени чудесно и таинственно.
— Поразительно, что работая с психоаналитической книгой, вы придерживаетесь прежней метафизической теории воображения, которая полагает, что вправду есть некий сырой материал, который можно кроить как угодно. Но ведь всё обстоит совершенно не так. Нет архетипа, который мы получаем только благодаря тому, что мы имеем честь принадлежать к роду человеческих существ. Архетип мы понимаем просто потому, что читали определённые книжки. Это как раз таки не чудо. Чудо начинается там, где обычный ряд архетипов неожиданно вызывает у нас отвращение, когда мы не хотим того, что у Юнга считается таким чудесным, а на самом деле ужасно банальным. И то, что кино, выросшее из этой банальности, способно к ней в себе обратиться, это и представляется мне самым чудесным опытом. Этот опыт уникален, и равных ему до того не было.
— О чудесности этого опыта как раз и написаны «Cahiers du Cinéma» и многие другие киноведческие журналы. Они только об этом говорят, насколько это возможно.
— А я ваш энтузиазм по поводу кино не поддерживаю. Люди перестают прилагать усилия для того, чтобы самому поехать путешествовать в Африку, например. Чтобы узнать всё своими глазами. Они просто нажимают на кнопки, лёжа на диване, а вы считаете это нормальным. Нажми кнопку удовольствия — и все эмоции у тебя есть.
— Ну сколько можно по этому поводу ворчать. Вспомните известное русское выражение: «Хватит считать ворон». Понятно, почему считали ворон — потому что не было телевизора. С тех пор ворон уже никто не считает. А теперь мы пришли к выводу, что, может, это и не так плохо — считать ворон. Может быть, это чудесно? И мы можем представить себе такую площадку, на которой нам скажут: «Может быть, не так уж и плохо смотреть телевизор? Может, это лучше, чем пялиться на стену или попадать в такт времени циферблата и минута в минуту успевать на работу, и успеть в ситуации времени успеха». Мне кажется, что иногда считать ворон и смотреть телевизор — это более по-человечески.
— Как вы думаете, а обывателю эта книга может быть интересна?
— Мне кажется, что в ней многие могут найти интересные для них кусочки. Книга очень осколочная и фрагментарная, но тот рабочий принцип, которого придерживается автор, вызывает симпатию. Он действительно любит кино и в этом открыто признаётся, а зачастую признаётся в своей наивности. При этом у него очень точная интуиция, и время от времени он совершает удивительные находки, за которые можно порадоваться.
Одновременно, поскольку книга была написана в семидесятые годы, там очень много семиотики. И та часть текста, которая посвящена разборкам с Бенвенистом и Якобсоном, может показаться менее интересной. Эта часть в значительной мере осталась в тех годах, хотя на общей картине она и работает.
— Не могли бы вы рассказать, как Метц смотрит на ту часть кинематографа, которая считается запретной? Например, на порнографию, которая является непосредственной проекцией желания и воображаемого.
— Порнографию он как раз рассматривает в качестве удвоения. С его точки зрения всякое кино чувственно порнографично. А если речь идёт о порнографии-порнографии, то здесь возникает эффект определённого остранения, который визуализирует перед нами определённые исходные приёмы самого кино: фигуру наблюдателя, особенности вуаеризма и эксгибиоцинизма. И в каком-то смысле странно, что кинематограф нашёл в себе и другие направления, кроме этого, в котором он мог бы быть признан и которому он родственно и сущностно признан.
Тем не менее, это действительно отклоняющееся желание. Если по Фрейду сублимация может отклонить нас от прямого вожделения к некому производству символического, то кино — это форма самоотклонения от изначального короткого замыкания к удержанию разности потенциалов и удержанию целого мира. Все висячие сады воображения удерживаются и не смешиваются друг с другом. В чем, по сути дела, преимущество этого типа эротизма и сказывается. И если Барт вводит термин удовольствие от текста, то удовольствие от фильма (фильмическое состояние) — состояние гораздо более гормональное, имеющего более прямой коррелят вмешательства в чувственное и в то же время имеющее способность к самонасмешке, к автореференции — то есть к любым формам ухода. Но способный лишь до тех пор, пока коррелят спонтанного расфокусированного потока воображения сохраняется.
— Если мы заговорили о семиотике, как вы считаете, можно ли воспринимать фильм как текст, и какие основные характеристики этого текста? И в чём отличие кинотекста от текста литературного?
— Метц несколько иронически относится к этой точки зрения. Понятно, что как текст можно воспринимать всё. Но в какой мере это существенно и специфично кино — вопрос другой. Всё же речь идёт о чем-то чувственно неискоренимом. В этом специфика кино по отношению к той же анимации. Анимация может начинаться с нуля, как сотворение мира. Вот нет ничего, и вот появляется проволока, из которой раскручиваются фигурки. Вращения этой проволоки могут знаменовать чистую концепцию, чистый перфоманс.
Кино уже застаёт предметы и лица. И с этими предметами и лицами может очень многое происходить, и мы можем забыть от них. В тот момент, когда мы отвлекаемся (например, наскучила интрига, торчащая насквозь швами), то вдруг возвращаемся к какому-то странному взгляду, к подробностям. И они нас останавливают. То есть творение из ничего здесь оказывается невозможным. В силу этого сама чистота текстуальности не срабатывает.
Соссюр говорит, что основная функция знака — не иметь ничего общего с означаемым. Лучшие знаки те, которые не имеют ничего общего с денотатами, потому что тогда их семиозис оказывается быстрым и лёгким. Если бы наши означающие имели что-то общее с означаемым, то скорость семиозиса бы не получилась. Мы бы не смогли быстро мыслить. Используя слово река, мы бы увлекали за собой что-то влажное. Это замедление привело бы к тому, что сама суть семиозиса была бы нарушена. Поэтому все классические означающие должны быть произвольно приписанными к означаемому. И они всегда таковы.
Кроме знаков кино. Они оказываются чувственно укоренёнными, но при этом они образуют очень высокую скорость перемещения. Они как раз и создают ту вселенную неатрибутированной психики, где висят гроздья гнева, досады, смущения. И мы можем срывать их подобно виноградинам и пробовать на вкус. Мы пользуемся этим коллектором. Это и есть универсальное фильмическое состояние.
Оно может быть прочитано как текст, но, как мне кажется, это ничего не даст для понимания сути.
— Вы говорили о феноменологии Рикёра и упоминали абстрагированный психический континуум. У меня возникло опасение о присвоении этих абстрагированных психических состояний, которые могут засорить и перенаправить интенции. Возникает некий хаос. Посмотрев один фильм, хочется очиститься, окунуться в сказку, что-нибудь светлое. Выходит какая-то дурная бесконечность.
— Да, я с вами согласен. Есть опасение, что это не остаётся безнаказанным. Процесс засорения, пока мы продираемся через дебри континуума, действительно происходит. Засорённость вторичными психологизмами кино видна на каждом шагу. Но это же не повод отказаться от кино.






