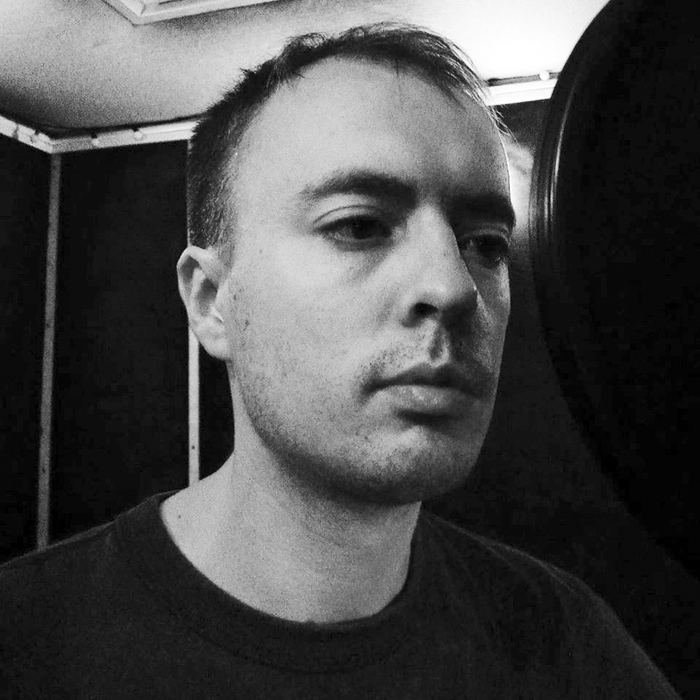Дарья Жук: «Ты не носишь кепку? Да ты не режиссер»

— «Хрусталь» выдвинули на соискание «Оскара». Насколько для вас важна эта номинация? Вы учились в США, и выдвижение на «Оскар» от Беларуси — это такой кружной путь обратно.
— Идею подала не я. В числе инвесторов фильма была американский продюсер, которая сразу увидела в этом потенциальный foreign language [фильм для номинации «лучшая картина на иностранном языке» — примеч. ред.], и уже на монтаже посоветовала думать об этом наперед. Для меня тогда это казалось чем-то невозможным: я только закончила съемки первого фильма и радовалась, что вообще жива. Поэтому и сейчас мучусь этим вопросом, стоит переживать или нет? Ведь это эмоциональные и финансовые затраты, все приходится делать вручную, собирать деньги, людей. Я хочу двигаться дальше, снимать, а это кино меня держит.
— Главный продукт студии «Беларусьфильм» — патриотическое кино. И вот, впервые за 22 года Беларусь отправляет фильм на «Оскар» — «Хрусталь». В то же время от России едет патриотический «Собибор» Хабенского, сделанный по идее Мединского.
— Да, это ситуация-перевертыш. Продюсерам пришлось непросто, на базе «Беларусьфильма» пришлось собирать комитет, запускать процесс с нуля. Было недостаточно информации, как это организовать, о комитете не сообщили вовремя, в стране был небольшой скандал, а у меня самой — глубинный страх: вдруг мы что-то не то делаем? Ориентиров ведь нет. Но сама идея носилась в воздухе, министр культуры высказывал ее где-то в 2010 году. Не было фильмов, которые попадали бы на фестивали категории А [премьера «Хрусталя» случилась на фестивале в Карловых Варах — примеч. ред.]. В 2004 году был фильм «Оккупация. Мистерии» [его также показывали в Карловых Варах — примеч. ред.], но в Беларуси он сразу попал под цензуру, и номинировать его было невозможно. А предыдущие выдвижения были тоже не совсем «нашей» историей. В 1996 году выдвигался фильм русского режиссера Дмитрия Астрахана, в 1994 — француженки Иоланды Зоберман.
— А вы, в некотором роде, режиссер из Америки. Расскажите, как происходила учеба?
— В принципе, американская система устроена так: все, что ты ни сделаешь, прекрасно. Но только не в киношколе. Там с тобой говорят по-другому. «Вы думаете, что вы взрослый человек? Да вы никто! Вы маленький ребенок, вы не умеете ходить. Вы не знаете грамматики, не можете составить предложение». Сначала они уничтожают тебя, а потом строят заново. У меня был культовый профессор Эрик Мендельсон, который два раза выиграл «Санденс» [фильмы Мендельсона дважды получали награду за режиссуру; также он дважды попадал в каннскую секцию Un Certain Regard — примеч. ред.]. Он знаменит тем, что читает лекции по 12 часов. И так два дня подряд, в душной комнате. Ты выходишь тотальным зомби. Мендельсон формалист, для него раскадровка это всё, устройство каждого кадра должно иметь теоретическую основу. Каждый раз, когда я показывала ему какие-то работы, он говорил: «Девочка, посмотри Дэвида Лина, посмотри классику, ты же вообще ничего не знаешь. У тебя недосъем, недосъем!» Думаю, все эти проблемы у меня остались. С другой стороны, когда телевизионный оператор здесь спросил меня: «Как ты предпочитаешь, через плечо или крупно?» — я рассмеялась, потому что это не от предпочтений зависит.

— Ваши учебные работы были сняты в США на английском, но полнометражный дебют состоялся здесь. С чего начался «Хрусталь»?
— Меня всегда тянуло снять кино дома, я чувствовала какую-то недосказанность. Поэтому, когда пришла в киношколу, эта история была первой, которую я стала питчить. Тогда она была недоразвитая, не до конца понятная мне самой — Хельга [Ландауэр, автор сценария «Хрусталя» — примеч. ред.] сделала из нее магию. Американцы ее до конца так и не смогли понять. Почему героиня делает все не по правилам? Они не понимали, что это страна, застигнутая в переломный момент. Им нужен был тотальный трэш и серость — вот «Лиля навсегда» понятный для них фильм. А мне не хотелось это так показывать. Для меня это история про самореализацию, а не «Интердевочка». Конечно, она близка моему собственному желанию поехать в Америку и реализоваться. Но «Хрусталь» не про отсутствие возможностей: просто героиня их не видит у себя дома. Ее желание, на самом деле, очень современное, она персонаж впереди своего времени.
— Выходит, что вы закончили обучение в США и все-таки вернулись, чтобы сделать этот фильм?
— Я училась там пять лет, но предложения о работе стали поступать уже на третий год обучения — позвали на телевидение. Я сняла пилот сериала «Филфак», и эта машина начала меня заманивать. Но в итоге мне не доверили запускаться на двадцать серий, и я благодарна тем людям. Они меня этим уберегли. Сейчас-то я понимаю разницу между телевидением и кино, а тогда я просто радовалась, что появилась работа, что дают снимать, говорят «еще, еще»! Когда ты молодой режиссер, тебе кажется, что чужие проекты тоже твои, ты к ним как к родному ребенку — а он все-таки приемный. Но тогда у меня была страшная депрессия — я уже переехала в Москву, и в последний момент все сорвалось. Выручил короткий метр: мои работы ходили по фестивалям, дипломная короткометражка попала на SXSW. Я поняла, что жизнь говорит мне: нет рекламе, нет телевидению, ты будешь снимать другое.
— Эта короткометражка — The Real American о девушке Але, которая приезжает в США по обмену и у нее появляется временная американская семья?
— Да, «Настоящая американка», а еще What Doesn’t Kill You, такая «правильная» женская драмеди про больную девушку, которой жизнь не в кайф. Там все на грани: можно плакать, можно смеяться.

— В создании «Хрусталя» участвовала американская компания Vice Films. Я смотрел версию с английскими субтитрами, и там видна попытка текстуально разъяснить какие-то характерные вещи, кстати, очень хорошая.
— Мы много-много раз переделывали титры, они и сейчас далеки от идеала. Эта невозможность перевести как надо очень беспокоит, когда знаешь оба языка.
— Как была устроена работа с Vice? У них было право на консультирование, на какие-либо запреты?
— Они финансово поддерживали проект. Возможность консультации у них тоже была — я показывала последние варианты. Были очень смешные разговоры. Например, до скандала с Харви [Вайнштейном — примеч. ред.] они хотели, чтобы я пересняла сцену изнасилования.
— Надо полагать, в сторону большей меры подробности?
— Они хотели, чтобы это было жестко. Я чувствовала, что им вообще нужен другой финал — чтобы героиня бросилась в озеро. В сценарии они увидели трагедию. Кроме того, им хотелось адаптировать все для американского рынка: добавить закадровый голос, показать, что она смотрит MTV. Когда я все это выслушала, то подумала: слава богу, что вы даете мне такую маленькую часть финансирования, что я не могу на нее сделать эту версию. Иногда нужно говорить нет.
Я мягко отказала. А потом у них частично сменилось руководство, и на место креативного продюсера компании пришла женщина. Потому что они понимали тенденции [в связи с metoo — примеч. ред.]: меняйся или умирай. И когда она посмотрела фильм, то сказала: он особенный, ничего там не трогай. Их мир очень сильно изменился с августа, когда я делала пересъемку.
— А как проходили съемки в Беларуси? Ваша команда была рада участию в таком проекте после того кино, в котором обыкновенно участвует?
— Все присоединились к проекту со словами: «А, что, кино? Серьезное?» И все время использовали дурацкие эпитеты, у киношников тут они свои. Например, «красивая картинка». Они видели, что у нас получается в кадре, и говорило: ах, красиво. Хотелось застрелиться.
— Нет привычного языка, которым можно это описать?
— Да, к тому же, техническая команда смотрит на экран. На драматургию смотришь только ты и продюсер. Продюсер подошел ко мне всего один раз, и сказал: «Ты это все так и оставишь?»
— Хороший вопрос, сразу запускается механизм тревоги.
— Да! «А что я сделала?» На самом деле, он был по поводу игры Алины [Насибуллиной, исполнительницы главной роли — примеч. ред.]. Я сказала, что мне все нравится. Потом он увидел сборку и говорит: «Вау, она же птица не отсюда, все ее жесты работают». Но это потом было — а когда он подошел ко мне, я еще два дня терзалась и не спала. Потому что тревога как снежный ком. Поэтому я завидую режиссерам, которые всё знают. Мне нужно пространство, чтобы никто ничего не говорил. Слишком легко все разрушить.
— Юрий Борисов, который играет диджея-наркомана, совершенно фантастический типаж. У него был жизненный прототип?
— Юра так устал играть матросов и солдат, что услышав от меня «сыграй наркомана», засветился и говорит: «Ааааа, сейчас я тебе!» Он вложился по полной: проколол ноздрю, капал себе в глаза капли. Так вышло, что последнюю сцену мы снимали в первый день. То есть, я его даже не видела в образе: мы только подобрали костюм, и он ушел. Он появился на площадке уже в роли, с закапанными глазами, казалось, что он правда не в себе, super high. Мне было страшно.

А сам персонаж составлен из нескольких знакомых людей. В одиннадцатом классе я встречалась с одним таким человеком, которого очень любила, но он был абсолютно безумный. Мои минские друзья гадают, кто же «оригинал», и там уже есть кланы, которые борются за свою версию.
— Как в фильм попал Хаски? Белорусский зритель его хорошо знает?
— Это чудесная случайность. Сейчас журналисты пишут, что Хаски познакомился с Алиной во время съемок, но это не правда — он приезжал к ней в гости в Минск. Мне же нужен был персонаж «не отсюда» для сцены, в которой Степан идет перебивать татуировку. Ему нужен человек, который его не сдаст. И понятно, что это заезжий парень, может иммигрант. У нас мало актеров «не белорусских». Когда я увидела Диму, сразу поняла: да ведь он просится в эпизод! И мы с Алиной позвали его. До этого он не снимался нигде, поэтому согласился с интересом.
— На Алине держится очень многое в фильме.
— Когда Алина прислала мне актерскую визитку, там было сказано: я актриса, но вообще я художник. Теперь Алина сняла свой короткий метр. Мне очень понравилось, что человек себя ищет, что он не просто пластилин, такие мне не нужны. Один из моих актеров сказал: «Мы все из этой точки вышли, даже если не очень знаем 90-е, мы тогда родились».
— Сейчас в молодом кино происходит поворот к 90-м. При этом «Витька Чеснок» скорее условно «массовое» кино, а «Теснота» — фестивальное. Вы ощущаете себя внутри этого явления?
— Надеюсь, что я где-то посередине! Для меня было неожиданностью, что стали появляться эти фильмы: я сидела на монтаже, когда вышел трейлер «Тесноты». Видимо, есть некий накал, который требует высказывания. Понятно, что я не одна в этом поле притяжения.
— Сложно было малой кровью воссоздать девяностые?
— Мне задавали этот вопрос на первом интервью, и помню, я почувствовала, что не могу ответить: просто начну плакать сейчас. Мы работали так жестко, что мои художники половину времени были пьяные. Часто нам приходилось просто сидеть, ждать чего-то: объект был не готов, например. Всё было неправильное: туда можно посмотреть, сюда можно, а вот туда уже нельзя, там девяностые заканчиваются. И ты думаешь, как из этих двух планов сделать сцену. Но эти ограничения работали на фильм, на ощущение клаустрофобии, которая возникает у героини от окружающей действительности.
Эти ограничения часто — подарки вселенной. Хельга написала в сценарии: «Стекольный завод, люди работают». А что они делают? Первая мысль: там печь, и они выдувают стекло. Но стекольный завод в Борисове стоит. Запустить печь — две недели нужно. А вот запустить метки, которые они ставят, можно за час. И я вдруг поняла, что эти метки гораздо лучшая метафора общества, которое помечает героиню, делает индивидуальность невозможной.
— Какие ориентиры были у вас в кинематографическом плане?
— Я ориентировалась на раннего Джармуша, на Сьюзен Зейделман и ее первый фильм «Осколки» про девчонку, которая хочет приехать в Нью-Йорк и быть крутой рок-н-рольщицей. С оператором мы разбирали «Иду». Из отечественного — раннюю Киру Муратову, где тоже 4:3, хотя это просто данность, а не выбор. Референсов было много, в особенности фотографий.
— В России фильм приняли как свой. Как вы считаете, белорусские 90-е отличаются от глобальных, от российских? И как к вашему представлению о 90-х отнеслись на родине?
— Моя мама четко ассоциирует себя с российской культурой. И когда я росла, тоже чувствовала, что у нас все одинаковое: ты говоришь по-русски, смотришь российские каналы, смеешься над белорусским телевидением и кино. А потом я поехала работать в Москву, и оказалось, что это совершенно другой мир.

Что касается восприятия — я честно рассказала свою историю, но например мой дедушка сказал, что «такого не было». Я говорю: твоя внучка ходила на рейвы и носила желтую юбку. Нет, не было. А если и было, то «это неправильно». У нас остается не отвеченным вопрос о национальном характере, о политике. Об этом говорит только пропаганда, которую никто не смотрит, патриотическое кино о партизанах. Я попыталась что-то заложить в фильм, поэтому мама героини работает в музее, все время ходит почетный караул к вечному огню, возникает тема войны. Но фильм не отвечает на запрос. Он не на белорусском языке и не отвечает ни на какие требования, кроме моих собственных.
— Где вы хотите работать дальше?
— Там, где будет хороший проект. Конечно, хочется сделать кино на английском, зарекомендовать себя в Америке, где другие бюджеты, другое пространство. «Хрусталь» им нравится, но с ним было трудно попасть на хороший фестиваль. Один куратор сказал мне, что для Восточной Европы это недостаточно мрачный фильм, он должен репрезентировать что-то определенное. При этом я не люблю, когда меня называют американским режиссером. Я никогда не эмигрировала, я просто уезжала учиться.
— И в коротком метр, и в «Хрустале» важная тема — нарушение личных границ. Она часто находит телесное выражение, как, например, в «Настоящей американке», где культурные различия концентрируются в ритуале бритья ног. Поскольку у вас транзитное положение, я хотел вернуться к истории с metoo и узнать о вашем опыте.
— Здесь неравенство ощущается гораздо жестче. Мы с вами сидим в Санкт-Петербурге, у меня были долгие отношения с режиссером отсюда. И я хорошо помню эту невозможность договориться. На Западе гендерные роли более гибкие. У нас же они зафиксированы, и уже в 16 лет мне это претило, еще до поездок в Америку. Все время приходилось бороться за свою личную свободу. Но я была по-другому воспитана, мои амбициозные родители всегда твердили, что главное — это профессия. У меня был друг, который уже во время работы в Москве говорил: «Если не ноет, то не женщина». Ты же живешь в Нью-Йорке полжизни, как можно так говорить? Это остается, несмотря на все переезды. В Америке хотя бы есть возможность это обсудить, есть конструкция языка. Если ты скажешь «харассмент» по-русски, уже всем становится смешно. Харви вызывает шутки и смех, а не дискуссию.

— Но отсюда кажется, что дискуссия на Западе часто превращается в шельмование.
— Несомненно, потому что правда всегда сложнее. В Одессе меня обвинили в том, что я «сняла террориста», потому что Хаски выступал для батальонов ДНР [на Одесском фестивале фильм взял гран-при — примеч. ред.]. Допустим, то, что Вуди Аллен — это теперь evil, с которым нельзя работать и актеры, которые у него снимались, заявили, что сделали ошибку — для меня это тоже проблема. Какая ошибка? Я не могу отвечать за политические взгляды всех, кто у меня на площадке. Я не могу отвечать за предполагаемые сексуальные преступления. Мы не по этому поводу собрались.
С другой стороны, в Америке у меня было больше ситуаций, где происходит не вербальное, а буквальное обрезание крыльев. «Ты же не режиссер, ты не носишь кепку…» Там важны ролевые модели, а их мало, так как гораздо меньше женщин снимают кино.
— В рамках «Послания к человеку» состоялась встреча с актрисой Марикой Грин, сыгравшей у Брессона в «Карманнике». Конечно, она рассказывала про то, как Брессон заставлял актера 70 раз подниматься по лестнице ради короткого информативного плана. Нынешние тенденции, кажется, делают такую форму отношений на площадке невозможными. Как вы к этому относитесь?
— Я очень люблю фильм «Карманник», но сама я на другом полюсе. Необязательно насиловать Шнайдер, чтобы получилась сцена в «Последнем танго в Париже». Я верю в актеров, верю, что у них уже есть нужный диапазон. Человек сам себе тиран, и добавлять к этому страданию ничего не нужно.
Читайте также
-
«Один фильм помогает понять другой» — Говорим о любительском кино
-
«Это разрушит хрестоматийное восприятие» — Даниил Воробьев о сериале «Чистые»
-
«Камера видит любую фальшь» — Светлана Филиппова о фильме «Лиссабон»
-
«Стаканчик должен быть полон, причем кипятка» — Станислав Фомичев и Анна Далингер про «Угол наклона»
-
Аличе Рорвахер: «Нужно понять, что ты не уникален»
-
Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»