Варда глазами Аньес
О книге

«Варда». Издательство «Сеанс», серия «Классики мирового кино», 2018.
Без нее нельзя вообразить французскую «новую волну», но она не считает себя ее представителем. Говоря об Аньес Варда, часто вспоминают и о феминизме, хотя в своем творчестве она никогда не отводит ему решающую роль, — фильмы делаются ради искусства. Неутомимый экспериментатор, уже полвека она снимает кино, в котором правда переплетается с вымыслом, и в свои девяносто лет остается одним из самых актуальных авторов мирового кинематографа.
В сборник вошли тексты Андрея Плахова и Елены Грачевой, а также режиссерская фильмография, воспоминания и размышления Варда разных лет.
Ко мне приклеился ярлык интеллектуалки, и это тяжелый крест… И неправда.
«Новая волна»
Я была на волне «новой волны». Благодаря Годару Жак [Деми] снял «Лолу», которую спродюсировал Жорж де Борегар. Благодаря Жаку я сняла «Клео…». Это была эстафета в том смысле, что были некоторые общие идеи, например: сделаем фильм с маленьким бюджетом, герой которого бродит по улицам Парижа.

Я никогда
Черно-белое и цветное
Когда я представляла себе Клео в опасности, угроза была белой как смерть. Я читала, что на востоке цвет траура — белый. И сама представляла, как умру от шока, когда мне в глаза будут бить два прожектора. То есть умру от избытка яркого белого цвета. Я использую белый как ощущение. Это фон, который то и дело угрожает все затопить, а на нем вырисовываются темные элементы. В студии Клео, очень белой, очень темная кровать. Я хотела, чтобы лужайки в парке Монсури были бы кремовые, как будто покрытые снегом, нереалистичные. Для этого приходилось снимать очень рано на рассвете (в июне светает рано). Рабье [оператор «Клео с 5 до 7»] поставил зеленые фильтры на объектив, чтобы трава казалась бледной. Я говорю о технике, потому что нет кинописьма без кинотехники.
Снимая «Счастье», я думала о палитре импрессионистов, об их пейзажах, их открытиях, связанных с дополнительными цветами. У апельсина фиолетовая тень, поэтому немного фиолетового в золотистой траве — это приятно. Я снимала сцены пикника так, чтобы в одной было много красного, во второй — синего.
В «Жако из Нанта» я сохранила в цвете все те зрелища, которые поразили Жака [Деми], когда он был ребенком. Он вспоминает цвета и магию театра кукол, затем оперетты, а потом фильмы. Я решилась смотреть за него. Платье тетушки из Рио, первая помада на губах соседской девочки, киноафиши — эти незабываемые воспоминания даются в цвете. Остальная часть жизни
Голливуд в 1968 году
Симона Синьоре пригласила нас на обед к вдове Дэвида Селзника. Сначала были коктейли, бесконечные, как это бывает в Америке. И среди гостей неподвижно стояла женщина. На ней было длинное прямое платье. Она была похожа на колонну — ни талии, ни бедер. Казалась совершенно потерянной. Чуть погодя
Вокруг нас не было ничего нейтрального, все было гипертрофировано.
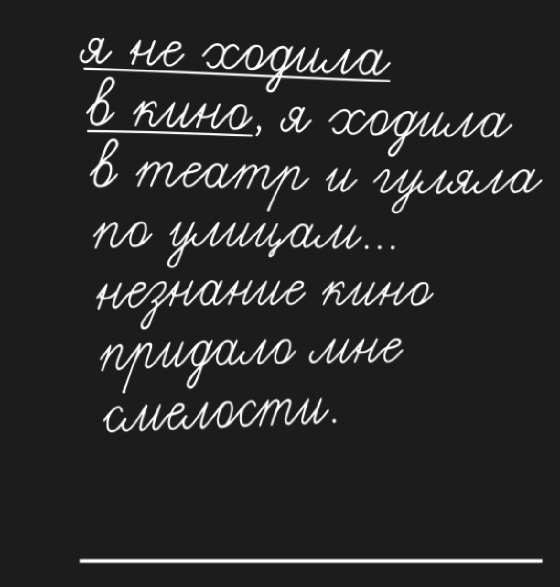
Один наш знакомый устраивал «вечеринку в белом». Жак [Деми] надел джинсы и белую футболку. Мы с [дочерью] Розали были в белых платьях. Но когда пришли, выяснилось, что это совсем не то, что мы подумали. Десятки юных эфебов бродили по саду в коротких туниках, белых и полупрозрачных, с вышивкой у горла, на которые тогда была страшная мода. И под туниками у них не было ничего. Я видела, как одиннадцатилетняя Розали с любопытством смотрит на их порхания среди кустов гибискуса.
Дэвид Хеммингс, ставший известным после «Фотоувеличения», как раз женился на Гэйл Ханникат. Был свадебный обед. Нас посадили рядом с Майклом Йорком. Столы были расставлены вокруг бассейна. Гвоздем праздника был огромный шоколадный торт, который быстро порезали и раздали всем гостям. Он был вкусный. Многие попросили добавки. Постепенно стало понятно, что в торте была марихуана.
Уорхол
1968 год.
Моррисон
Я немного знала его. В 1966 году в
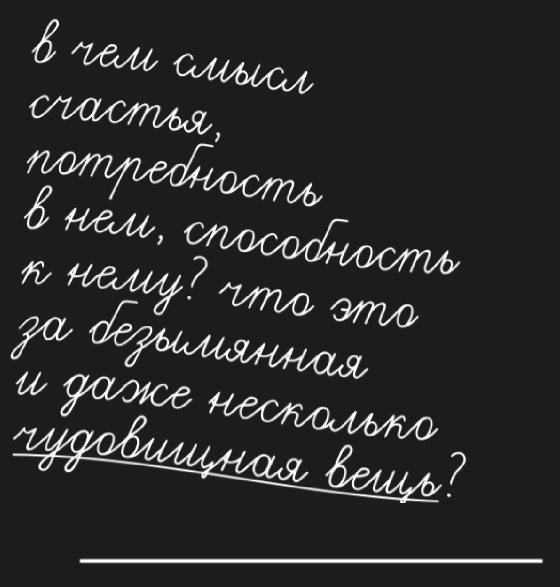
Когда ей исполнилось десять лет, моя дочь Розали составила список гостей на день рождения: десять одноклассниц и Джим Моррисон. Он принял приглашение. Я хорошо помню длинный стол, во главе которого сидел Моррисон, опрокидывая одну рюмку коньяка за другой. Девочки по обе стороны стола ели пирожные, шептались и были совершенно очарованы красивым гостем, взиравшим на них вполне благосклонно. После этого он заснул, упав лицом в тарелку, в стельку пьяный. Они же как ни в чем не бывало продолжали есть пирожные.
Феминизм
Я не спрашивала себя, тяжело ли мне как женщине будет снимать кино. Просто подумала, что мне это понравится, и попробовала себя. Спустя годы ко мне приходило много девочек, просивших написать им рекомендательное письмо, потому что женщине так трудно пробиться в мужском кругу, что отчасти верно. Но я всегда отвечала, что, может быть, это верно для общества, но ты сама не должна так рассуждать. Ты должна думать: «Я — человек. Я хочу снимать кино независимо от того, трудно это или нет. Если общество против женщин, эту проблему нужно постепенно решать. Но она не должна быть точкой отсчета». И я так говорю, потому что никогда не рассматривала себя как
Постепенно феминистское движение крепло, и многие женщины задумались об их положении в обществе. А за последние пять лет это движение стало не только

Меня всегда раздражало, что в кино женщина представлена исключительно в их любовных отношениях: влюблена она или нет, была ли влюблена или влюбится. Даже когда она одна, ей приходится быть влюбленной. У мужчин на экране положение другое. Есть фильмы, в которых для мужчины главное работа, фильмы о мужской дружбе, фильмы, в которых мужчины должны воевать и бороться. Но в кино никогда не увидишь женщину, для которой главное работа. Нет фильмов, в котором женщина
Документальное и игровое
У меня никогда не было плана. Я жду, пока
Я действительно стараюсь писать для кино одновременно люмьеровского и мельесовского. Использовать эту великолепную стихию кино — лица реальных людей в реальных ситуациях. Этих людей не подкараулили, за ними не шпионили, они сами согласились сниматься в чужом проекте. И в то же время я использую сновидческое воображаемое, иконографию умозрительного мира.
Я всю жизнь пытаюсь перебросить мостик между документальным кино и игровым. В
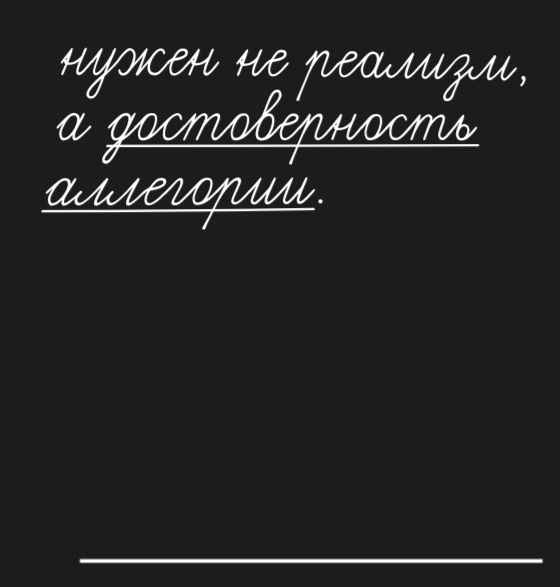
Объективных документальных фильмов не бывает. Пришлось бы поставить пятьдесят камер в одно место, и пусть снимают сами по себе лет пять. Но даже тогда монтаж будет субъективным. Объективными могли бы быть серии общих планов, которыми никто не управляет, безо всякого монтажа, снятые безымянной камерой. Объективность, таким образом, — это фиксировать все, что происходит на улице, и даже если не очень хорошо видно.
Когда показываешь документальный фильм, тебе аплодируют, но на самом деле они аплодируют героям. Поэтому после показа «Собирателей и собирательниц» я чувствовала себя неловко. И через пару лет я вернулась к людям, которых снимала в 2000 году. Я была им
Кинописьмо
Сегодня много режиссеров снимают фильмы, про которые говорят «хорошо сделан», «хорошая работа». Но для меня «хорошая работа» означает нечто другое. Хорошая работа — это когда воображение переизобретает клише. Когда ум ослабляет хватку и позволяет ассоциациям свободно появляться. Именно тогда я начинаю в кино писать. Кинописьмо (cine-écriture) — можно так сказать? Новые отношения между образами и звуками позволяют раскрывать те образы и звуки, которые раньше подавлялись и скрывались у нас внутри… Вот тогда получается снимать фильмы со всеми дополнительными эмоциями. Это я и называю «хорошей работой».
Мне не приходилось общаться с американскими
Возраст
Мне исполнилось восемьдесят, и я подумала, что надо
Читайте также
-
Сто лет «Аэлите» — О первой советской кинофантастике
-
Итальянский Дикий Запад — Квентин Тарантино о Серджо Корбуччи
-
Опять окно — Об одной экранной метафоре
-
Территория свободы — Польша советского человека
-
Ничего лишнего — Роджер Эберт о «Самурае» Мельвиля
-
«Иди домой, мальчик!» — «Приключения Электроника» Константина Бромберга






