Советский денди. Сюжет для небольшого романа
— Это Гамсун?
— Нет, это комсомолец Гриша Фокин!

Он очень любил фотографироваться. И умел. К шестидесятым годам фотографироваться научились уже многие, почти все. Но Юткевич умел фотографироваться и в 1920-е, и в 1930-е, и даже в 1940-е, когда жанр фотопортрета фактически исчез. Чтобы хорошо получаться на фотографии, нужны два качества: внутренняя гармония и артистизм. Редкое сочетание. Оно безусловно присутствовало у Эйзенштейна — вот, кстати, кто замечательно получался на пленке. Фотографии напоминают кадры, вырезанные из кинохроники. Собственно, именно на кинопленке Эйзенштейн смотрелся органичнее всего — причем, где бы вы ни сделали стоп-кадр, всюду получится прекрасная фотография. Как в классическом балете.
У Юткевича же принципиально статичные фотографии. Даже когда он разговаривает или танцует. Ничего общего с парадными портретами на досках почета. Очень обаятельное и даже трогательное выражение лица — редкое выражение: по-мальчишески самоуверенное, но «припудренное» легкой застенчивостью. Порой он улыбается. Но чаще всего на портретах этих — полуулыбка. Она очень идет Юткевичу, и он сам это чувствует. И потому — еще более обаятелен. Чуть небрежно отогнут ворот пальто, рубашки или шубы, по обстоятельствам; голова чуть повернута или наклонена набок, рука изящно покоится на спинке дивана или кресла (эта поза особенно удается Юткевичу). Общие пропорции парадного портрета соблюдены, но все чуть-чуть смещено — отсюда и возникает неповторимая грация. Чуть-чуть…


На озвучании фильма Встречный, 1932 г.

На съемках фильма Анкара — сердце Турции, 1934 г.
«В искусстве важно «чуть-чуть». Чуть больше — и стало грубо, чуть меньше — и невыразительно… — Он делал паузу и, картинно щурясь от дыма, продолжал. — Надо уметь к каждому эпизоду подобрать свой ключик…»
Это Григорий Чухрай о Сергее Юткевиче, своем учителе по ВГИКу. Действительно, в киноискусстве Юткевич придерживался примерно тех же принципов, что и в своем внешнем облике.
Да, вот еще! Перед тем как окончательно перейти к вопросам киноискусства, нужно сказать несколько слов про шарфы и темные очки. Шарфы ведь очень мало кто умел носить в Советском Союзе. Даже Козинцев не умел. Опять же, Эйзенштейн носил шарфы, но у него это получалось как-то смешно, чересчур эксцентрично. Юткевич обращался с шарфом более талантливо. При этом вовсе не обязательно было замысловато закидывать его за спину — шарф мог просто висеть на шее, получалось естественно и элегантно.
А первая известная историкам киноискусства фотография Сергея Иосифовича в темных очках относится еще к периоду работы над «Встречным» — картиной, от которой ведется отсчет социалистического реализма в советской кинематографии. Затем с каждым годом портретов в темных очках становилось все больше. Правда, на первых порах, очки всегда покоились на лбу. Но к шестидесятым годам Юткевич понял, что нет никакой необходимости снимать темные очки, когда фотографируют: на результат это мало влияет.
Действительно, если всмотреться, то глаза на всех фотографиях — пустые. Поза есть, а взгляда — нет.
«Трагическая фигура <…> мой друг С.И. Юткевич. <…> По малолетству он еще ничего не имел сказать, <…> а техника у него была почти зрелого художника, т. е. произошло размыкание: получилась беспредметная игра формами, которые служат вообще для выражения не только содержания, но для выражения индивидуальности художника. Вот то, что он овладел техникой раньше, чем было чего высказать, это размыкание до известной степени осталось на нем, как большой трагический отпечаток. У него никогда нет слитности и единства творческого процесса, где замысел и желание росли бы вместе с возможностью выражать, потому что [таков] единственно органический подход. <…> Т. е. в картинах Юткевича не чувствуется непосредственно индивидуальность, а между индивидуальностью и видом его произведений лежит какая-то грань».
Это сказал о Юткевиче Сергей Эйзенштейн: они вместе начинали в ГВЫРМе у Мейерхольда, вместе оформляли спектакли в театре Фореггера и других московских театриках начала 1920-х годов.
Юткевич действительно был интересным художником. Смелым. Тяга к гротеску, эпатажу, народному театру в сочетании с высокой образованностью, хорошим художественным воспитанием (тут и старые мастера, и «Мир искусства», и «Бубновый валет», и что угодно — двадцатые годы же!) — все это давало интересный эффект. Юткевич постоянно экспериментировал и нашел адекватный язык и для театральной живописи, и для книжной графики, и, наконец, для кино. Он оформил всего две картины: «Предатель» и «Третья Мещанская» — обе режиссера Абрама Роома. Это были очень разные картины, мелодрама эксцентрическая и мелодрама бытовая. Работа художника в обеих картинах была безупречной, и Юткевич мгновенно занял ведущее положение среди московских кинохудожников. Впрочем, это уже 1926–1927 годы.
А перед этим Сергей Юткевич два года с увлечением ставил скетчи на злободневные политические и социальные темы в живых газетах «Смычка» и «Синяя блуза». Работал с полной отдачей, весело, изобретательно, талантливо. Программа обновлялась регулярно, и нужно было каждый раз найти новую, интересную, яркую форму. Юткевич — вне всякого сомнения — самый талантливый режиссер за всю историю «Синей блузы». Ведь это задача не из легких: превращать газетные передовицы в произведения искусства. Юткевич справлялся с этой задачей: он прекрасно чувствовал форму. Эйзенштейна форма интересовала ничуть не меньше, но главной задачей для него все же оставалось найти нужное содержание. Именно это выдвигалось на первый план. И, наверное, еще в 1923 году решение поставить пьесу С. Третьякова «Противогазы» непосредственно в цехе настоящего газового завода не способствовало эстетическому изяществу представления, но оказалось для Эйзенштейна первой ступенью к новому пониманию театрального искусства.
За те два года, что Юткевич проработал в живых газетах, Эйзенштейн поставил два фильма: «Стачка» и «Броненосец «Потемкин».
В своей первой большой картине «Кружева» (до этого, еще в 1925 году, была короткометражка «Даешь радио!», не особо получившаяся и, судя по всему, так и не увидевшая экрана) Юткевич и не думал решать философские задачи. Как он сам позже признавался, его пленила «необычная фактура кружевного производства». Название было выбрано очень точно. Это во всех смыслах — кружева. Вязью плетет кадр за кадром оператор Евгений Шнейдер. Вязью монтирует картину Юткевич. Динамически фильм выстроен безупречно: от слаженности актерской работы получаешь наслаждение — и это при том, что психология в картине отсутствует начисто. Сказывается опыт «Синей блузы» и «танцев машин» Фореггера. В 1970-е годы Юткевич озвучит картину, и музыкальные кружева, переплетаясь с монтажно-фотографическими, войдут в ткань фильма ладно и обаятельно. Но самое поразительное, что в картине отсутствует не только фабула — это как раз бывает часто, — но и собственно сюжет. В картине нет содержания. Кружева не на что надеть.
И это действительно трагедия. Не знаю, ощущал ли ее таковой сам Юткевич, но безумно жаль, когда такое виртуозное владение кинематографическим мастерством, такое тонкое понимание природы кинематографического растрачивается впустую. «Кружева» — наверное, один из самых уверенных и эффектных дебютов в советском кино. Картина блестящая. Но стреляет холостыми.
Фильм вызвал скандал. В прессе разразилась полемика. Одни восхищались мастерством Юткевича, другие обвиняли в формализме. В результате режиссера выгнали с московской фабрики «Совкино». В общем-то, ему это было на руку: он перебрался в Ленинград — рассадник формализма. Это было логично: ведь Юткевич был настоящим, убежденным, законченным формалистом.

В Ленинграде формалистов было больше всего. Прежде всего, конечно, ФЭКСы, Козинцев и Трауберг. Что есть «Чертово колесо», как не опыт создания уголовной современной мелодрамы? А «С.В. Д.» — мелодрамы романтической, костюмной? А «Шинель» — опыт перенесения литературного стиля на экран. Только в «Новом Вавилоне» режиссеры отчетливо сформулируют настоящее содержание картины: краткий миг свободы и цена, которую нужно за это заплатить. И только тут поймут, что об этом и делали все свои фильмы. И тем самым излечатся от формализма раз и навсегда. Несмотря на всю любовь к форме!
У Юткевича такого прозрения так и не наступило. Да и не могло наступить. У него не было своей темы. Он мог загореться тем или иным материалом, но не потому, что там ставились волнующие его философские проблемы, а потому, что вставала интересная и трудная задача: challenge по-английски — гораздо более емкое и точное понятие. Как это осуществить в кино (или на сцене)? Как это будет выглядеть? Какую это примет форму? А что такое «это» — уже не столь важно. От того, что не знаешь, еще не чувствуешь пока — даже интересней!
Оттого и приход звука Юткевич принял радостно и безоговорочно: еще один компонент киноязыка, неизвестный, неразработанный. Уж с ним можно поэкспериментировать вволю. И, надо сказать, «Златые горы», вышедшие в тот же год, что и «Путевка в жизнь» и «Одна», — едва ли не самая изобретательная звуковая картина начала 1930-х годов. Юткевич умел и любил подбирать сильный коллектив. У него было хорошее чутье, и коллектив подбирался не только сильный, но и стильный. Искусство не менее сложное, чем искусство одеваться, между прочим. И на этот раз он пригласил не только молодого Дмитрия Шостаковича, но и звукооформителя Театра Мейерхольда Лео Арнштама — на доселе неведомую должность «звуко-режиссера». И втроем им удалось создать картину совершенно нового, до той поры не существовавшего жанра — «кино-симфонию». Это была изящная (именно изящная) психологическая драма из жизни рабочего класса — произведение поверхностное, но виртуозное и эффектное. Замечательный пример: огромная пятиминутная сцена, в которой хозяин завода, чтобы задобрить рабочих, дарит одному из них золотые часы за образцовую службу, — целиком построена на произведении такого, казалось бы, строгого и условного жанра, как вальс.
К концу 1920-х годов стало модным говорить, что монтажное кино изжило себя, что игра формой заслоняет идейный смысл фильма. На советское кино, как саранча, надвигалась туча серых прямолинейных агиток. На этом фоне обе картины Юткевича — «Златые горы» и «Встречный» — смотрятся на редкость приятно. Да, именно «приятно». Что называется, радуют глаз. Ни больше ни меньше.

Съемочная группа фильма Златые горы
Юткевич не раз попадет в безвыходное положение и каждый раз будет чудом выходить сухим из воды. Но самый главный и страшный удар в своей жизни он так никогда и не осознал. Постановление 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций утвердило в советском искусстве единый метод социалистического реализма. Причем не только метод, но и стиль, по сути. Это означало — конец формалистам. Юткевич никогда сам себя формалистом не считал и страшно обижался, когда его таковым называли. Тем более в 1932 году, когда эталоном соцреализма в кино был объявлен «Встречный». Через два года «Ленфильм» выпускает «Чапаева», затем появляются «Юность Максима», «Семеро смелых», «Депутат Балтики», студия получает орден Ленина, диплом на Московском международном фестивале и негласно признается лучшей киностудией страны. Причем «духовного лидера» у студии нет. В какой-то мере таким лидером, как это ни парадоксально, можно считать работающего в Москве Эйзенштейна. Лидером весьма специфическим; ленфильмовцы проходят несколько стадий: от безоговорочного приятия всего творчества Эйзенштейна до острой полемики с ним. Им есть чем гордиться: у Эйзенштейна, конечно, за плечами «Потемкин» — но это давно, десять лет назад, а у них — по нескольку шедевров в год. Это именно они осуществили тот самый «эксперимент, понятный миллионам»! На первом всесоюзном совещании творческих работников советской кинематографии в 1935 году ленфильмовцы со всей яростью нападают на бывшего «властителя дум»: тут и скандальный Леонид Трауберг, и, казалось бы, абсолютно мирный Сергей Васильев, и прежде всего, конечно, Юткевич. Претендентов на престол не наблюдается, и Сергей Иосифович с элегантной небрежностью надевает шапку Мономаха. Она вовсе не тяжела для Юткевича: в головных уборах он разбирается не хуже, чем в шарфах.
Понятно, почему Юткевич возглавляет антиэйзенштейновскую коалицию (оставаясь, вроде бы, его другом): начинали они вместе, да и рисовал Юткевич виртуознее на первых порах. И как это получилось, что Эйзенштейн достиг таких высот? Уж теперь можно наверстать упущенное. За Эйзенштейном — прошлое, монтаж аттракционов. За Юткевичем — настоящее, социалистический реализм. Эйзеншейн — сам за себя. За Юткевичем — «Ленфильм». (Самое любопытное, что линия «Встречного» на самом деле продолжения не получила: каноны «Ленфильма» 30-х годов сформулировали «мальчики» Зархи и Хейфиц в картине «Моя Родина». Но на это все закрывали глаза: «Моя Родина» давно лежала на полке.)
Нужно понимать, что социалистический реализм — последнее, к чему стремился Юткевич во «Встречном». Вероятно, он и сам это чувствовал. И оттого еще более цепко держался за не вполне законную корону. Правда, других желающих особо не наблюдалось: и ФЭКСы, и братья Васильевы, и даже Эрмлер (тоже, между прочим, автор «Встречного») вовсю работали над картинами, а Сергей Иосифович простаивал.
А простаивал он потому, что на самом деле никак не мог вписаться в этот злосчастный соцреализм. Когда все причесывается под одну гребенку, противостоять этому может только художник страстный, художник, у которого есть «своя тема». О чем бы ни делал кино такой художник, всегда эта тема пробьется наружу и произведет тем самым, быть может, даже более сильный эффект — как сейчас сказали бы, на «архетипическом» уровне. У Юткевича такой темы не было и быть не могло. А он, по природе своей, не мог не быть в авангарде — куда бы ни направляли этот авангард. Вот тут и начинается «общественно-политическая» карьера Сергея Юткевича: для многих она навсегда затмит его фильмы.
За что только не брался Сергей Иосифович, какие посты не занимал! Ни одно мало-мальски заметное собрание творческих работников в следующие пятьдесят лет не обошлось без фундаментального выступления Юткевича. Сколько предисловий он написал! Сколько собственных книг — больше, чем Козинцев и Эйзенштейн!
В 1939 году он вступает в партию. Рекомендации написали Евгений Еней — венгерский коммунист, участник Гражданской войны, и Фридрих Эрмлер — бывший чекист. Каким ветром занесло сюда этого «мальчика из интеллигентной семьи»? Вскоре он перебирается в Москву и с ходу становится художественным руководителем «Союздетфильма». Но были у Юткевича должности и вовсе экзотические. Тогда же, перед самой войной, Юткевича назначают главным режиссером ансамбля песни и пляски НКВД СССР, созданного по инициативе Берия. Другой бы отнесся к этому как к трудовой повинности. Юткевич засучивает рукава: он заявляет начальству, что нужны первоклассные драматурги, и специально из ссылки возвращают в Москву Михаила Вольпина и Николая Эрдмана. Балетмейстерами назначают Асафа Мессерера и Касьяна Голейзовского. Музыку пишет Шостакович. Декорации — Петр Вильямс и Вадим Рындин. В постановках танцев Юткевич применяет опыт работы в театре Фореггера, в «Синей блузе»… Короче говоря, в ансамбле песни и пляски НКВД образовался островок 1920-х годов. К слову сказать, Эйзенштейн тоже приблизительно в это же время готовил музыкальное представление: он ставил «Валькирию» в Большом театре. Одновременно Юткевич получает звание профессора, набирает курс во ВГИКе и становится заведующим кафедрой актерского мастерства. Без защиты диссертации ему дают степень доктора искусствоведения — при том, что пока он еще не написал ни одной книги (ничего, это он наверстает после войны). Докторская степень и профессорство были особенно важны для Юткевича: Эйзенштейн получил их двумя годами раньше.
Островок 1920-х годов… Такие островки Юткевич пытался обустроить везде, куда бы ни заносила его судьба. Один из таких островков занимает едва ли не самую привлекательную страницу советского кино второй половины 1930-х годов. Речь идет о «Первой художественной мастерской под художественным руководством С. Юткевича», созданной в конце 1934 года.
К началу 1930-х все киномастерские (такие, как ФЭКС, КЭМ или коллектив Кулешова) давно уже закончили свое существование, ибо и кинематографисты не избежали своего рода «коллективизации», вступая в стройные ряды творцов социалистического реализма. И создание в таком «колхозе» обособленной группы можно было воспринимать даже как своеобразный вызов. Тем более что публика там собралась чрезвычайно эстетская. Среди участников мастерской были режиссеры Лео Арнштам, Эраст Гарин, Хеся Локшина — все, кстати, ученики Мейерхольда (как и сам Юткевич); актеры Борис Пославский, Степан Каюков, Василий Меркурьев, Борис Чирков, художник Моисей Левин, драматурги Алексей Каплер, Николай Погодин, Лев Кассиль.
Первым делом оборудовали помещение в старом фотоателье под самой крышей огромного по тем временам девятиэтажного дома. Крыша была стеклянная, с дырками. Отопления не было. И новоиспеченные студийцы, как в добрые старые послереволюционные времена, принялись выискивать материалы для починки крыши, покупали печки-»буржуйки”. Арнштам раздобыл у какой-то старушки «из бывших» рояль «Бехштейн». Под тон роялю со складов «Ленфильма» взяли напрокат стулья-кресла карельской березы. В противовес такому аристократическому убранству Юткевич, вспомнив свое прошлое художника-авангардиста, соорудил систему кубов разной величины, раздвигающихся занавесей и деревянных площадок. В такой эклектичной обстановке и проходили репетиции всех сцен. И, действительно, из всего этого родилась, казалось бы, навсегда ушедшая атмосфера «студийности», с которой в двадцатые годы начинался кинематограф для Козинцева, Трауберга, Эрмлера и прочих.
Все правильно говорил Эйзенштейн: у Юткевича не было «чего сказать». Зато он мог собрать тех, кому было что сказать, и стать, таким образом, их вождем и учителем — очень заманчивая перспектива. Под маркой мастерской Юткевича вышли легендарная «Женитьба» Гарина и Локшиной, «Подруги» Арнштама, прелестная комедия Казанского и Руфа «Тайга золотая». В планах стояли «Поединок» Куприна (с Гариным в роли Ромашова — что могло бы получиться!) и «Клоп» Маяковского…

На съемках фильма Э. Гарина и Х. Локшиной Женитьба
Но «Женитьбу» сняли с экрана в разгар кампании по борьбе с мейерхольдовщиной, из сценария «Тайги золотой» пришлось убрать всю эксцентрику, «Клоп» был закрыт еще на подготовительном периоде. В конце концов мастерская распалась. И в этом, конечно, нет ничего странного. Ну на что рассчитывал Сергей Иосифович, запуская «Клопа» в 1937 году? И судьбу «Женитьбы» тоже можно было предугадать. Не мог Юткевич, державший нос по ветру, не понимать этого. И понимал, наверное. Но формализм был у него в крови.
Быть может, он и не разделял гаринской трактовки Гоголя, но чувствовал, что вещь будет в высшей степени оригинальна. А экранное воплощение «Клопа» было задачей неимоверной сложности — а чем сложнее, тем привлекательней. Природа, как известно, берет свое. И Юткевич, любивший властвовать, руководить, получать звания, благополучный Юткевич — играл ва-банк. Пускай он стремился лишь к внешнему эффекту, к выпендрежу — это слово все время вертится на языке, пора его произнести.
Но выпендреж в 1937 году — это поступок. Пожалуй, даже подвиг.
«Безумству храбрых поем мы песню!» — это про Вас, Сергей Иосифович. Без всякой иронии.
Но вернемся к ансамблю песни и пляски. Замечательная особенность дарования Сергея Юткевича — умение сделать произведение искусства из материала, искусству противопоказанного. Ансамбль — далеко не единственный пример. Когда в 1945 году Юткевичу предложили экранизировать отчетный концерт художественной самодеятельности общества «Трудовые резервы» — казалось бы, гиблое дело, — он позвал сценаристами тех же Эрдмана и Вольпина, которые придумали глупый, но изящный сквозной сюжет и написали остроумные диалоги, взял оператором Марка Магидсона, подобрал хороших актеров. И получился фильм «Здравствуй, Москва!» — одна из самых симпатичных картин 1940-х годов. Фильм живой, веселый и начисто лишенный «советской власти», хотя имя Сталин и упоминается неоднократно. Талант!
Изящно была сделана агитационная короткометражка «Как будет голосовать избиратель». Эксцентрический монтаж и живая авторская интонация Анатолия Кторова за кадром сделали «Освобожденную Францию» некоторым событием в отечественной документалистике — кстати, именно эти принципы через двадцать лет довел до совершенства Михаил Ромм в «Обыкновенном фашизме».
Смонтированные Юткевичем цветные кадры первомайского парада, вышедшие на экран под названием «Молодость нашей страны», вызвали восторженную реакцию Анри Матисса. А на родине — Сталинская премия, тоже хорошо.
Правда, если картина имела большее политическое значение, чем концерт «Трудовых резервов», то к формалистическим изыскам относились крайне настороженно. Юткевич всю жизнь гордился тем, что знаменитая «ретроспективная» драматургическая конструкция «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса была впервые применена им, Юткевичем, в картине «Яков Свердлов». Сталину картина понравилась, но он потребовал смонтировать сцены не в «эмоциональном», а в хронологическом порядке. Не выпендриваться, короче говоря. И Кторова, между прочим, в упоминавшейся «Освобожденной Франции» заменили на канонического Леонида Хмару.
И так одергивали Юткевича практически каждый раз. Боже мой, сколько гарантированных Сталинских премий уплыло у него прямо из-под носа — минимум четыре (две у него все-таки были, так что, учитывая еще две Государственные, которые ему дадут за «лениниану», вполне можно было переплюнуть Пырьева и Райзмана). И Юткевичу ничего не стоило получить эти премии: надо было просто «снять попроще». А он не хотел «попроще».
Или не мог.
Пожалуй, апофеоз Юткевича сталинских времен — картина «Свет над Россией», экранизация «Кремлевских курантов» Погодина. Вполне изящная экранизация, с прекрасными работами Николая Охлопкова и Вениамина Зускина, чуть стилизованно снятая тем же Магидсоном. Но здесь Юткевич перегнул планку: чтобы якобы дать почувствовать «дух революционного времени», он перенес свидание Маши Забелиной и матроса Рыбакова в кафе поэтов. И практически целиком показал представление «Незнакомки» Блока — в манере 1918 года (сам Юткевич еще с тех пор мечтал поставить блоковские драмы в театре). Это был перебор. Картина легла на полку, а Юткевич оказался в серьезной опале.

Кстати, именно к периоду съемок «Света над Россией» относится приведенный выше рассказ Григория Чухрая о «чуть-чуть» и о «ключике» к каждому эпизоду. История имеет продолжение: «Я слушал и восторгался его внешностью и поведением рафинированного интеллигента. Но вдруг за декорацией торопливо простучали женские каблучки. Юткевич вскинулся и закричал:
— Какая там сука ходит!
И все… Юткевич померк в моих глазах».
Чухрай не был одинок. Обаяние фотопортрета незыблемо. Оригинал был все-таки живым человеком. И огромное напряжение борьбы на два фронта, постоянное ожидание страшного финала, наконец, ощущение неестественности своего положения в кинематографе (и, тем более, того обстоятельства, что ощущал это не он один) — все это, конечно, давало себя знать в поведении действительно рафинированного, образованного и обаятельного Сергея Иосифовича.
Отчасти потому так радостно и дружно набросилась на него кинематографическая братия в дни печально известной кампании по борьбе с космополитами. Марк Донской кричал: «Отдай доктора!» — это, пожалуй, стало кульминацией. Но Донской был не одинок. И далеко не все выступающие говорили «из-под палки».
Предки Сергея Иосифовича Юткевича были мелкими польскими дворянами, и в верхах об этом прекрасно знали. Но дело было не только в том, что уж больно «подходящие» отчество и фамилия, и даже не в том, что, действительно, была у Юткевича, по меткому выражению киноведа Евгения Марголита, «высокомерная язвительность талмудиста». Главных космополитов отбирали не только по национальному признаку, но и по формальному — нужно было покончить с остатками проклятого авангардного прошлого. А Юткевич всегда шел в авангарде.
Многих сломала космополитическая кампания. Так никогда и не оправился после нее Трауберг. Юткевич выстоял и даже закалился. Посмотрите его фотографии начала 1950-х годов: он все так же мил и обаятелен. Эйзенштейн, на свое счастье, до борьбы с космополитами не дожил. Но фотографироваться все же разучился: на последних, послевоенных его снимках — усталый, напряженный человек. Легкость исчезла.
У Юткевича легкость никуда не делась. Он постарел — это да. Лет до сорока выглядел он по-мальчишески. Теперь наконец стал похож на мэтра. Ну что ж, эта новая ипостась ничуть не хуже прежней.

Итак, первый акт закончился. Второй будет гораздо менее драматичным. Но не менее эффектным. Занавес открывается — железный занавес, — и Юткевич выходит на мировую сцену.
За границей и сегодня Юткевича знают лучше, чем, скажем, Эрмлера, Хейфица или Пырьева. Он попал на Каннский фестиваль в составе первой советской делегации еще в 1946 году. Следующий раз советские кинематографисты были выпущены на Запад только через восемь лет, опять в Канны. И Юткевич снова в делегации. Ничего удивительного, что из всех членов делегации (среди них Сергей Герасимов, Марина Ладынина, Александр Птушко, Михаил Калатозов, Фридрих Эрмлер — это в 1946 году, Григорий Александров, Акакий Хорава, Клара Лучко — в 1954-м) именно Юткевич оказался самой заметной фигурой. Посмотрите, опять же, на фотографию: все советские страшно зажаты, особенно мужчины. У всех на лице — совершенно одинаковая ослепительная улыбка, все одинаково держат руки, грудь колесом, только ордена на лацкане не хватает — словно для «Правды» снимаются. И лишь Юткевич абсолютно раскрепощен. И понятно почему: он наконец-то чувствует себя в родной стихии. Он в совершенстве знает французский, умеет держаться в любом обществе, он умудряется всегда быть в курсе всех новейших течений в искусстве.
Он сразу же находит свой круг: Жан Кокто, Жан-Поль Сартр, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Фернан Леже. И становится их лучшим другом, отчего художественный вес Юткевича на родине сильно возрастает. Он очень гордился своими портретами работы Матисса и Пикассо. Любил на фоне этих портретов фотографироваться. Кстати, Матисс по его просьбе нарисовал сразу три портрета — для самого Юткевича и двух его дочек. Потом Кукрыниксы со свойственным им чутьем нарисовали совершенно гениальную карикатуру в манере одновременно Матисса и Пикассо и подписались: «Пур тус нотр ами, Серж Юткевич. Кукрыникссо. 1956, Москау».
Интересно, знали ли об этой тесной дружбе сами Кокто, Матисс и Пикассо? То есть, безусловно, Юткевич им был интересен: все-таки цивилизованный человек из такой дикой и неведомой страны. Все советское было ново. И приз за режиссуру в 1954 году получает именно Юткевич — за фильм «Великий воин Албании Скандербег». Кстати, вот этот фильм наверняка бы получил Сталинскую премию. Но, к сожалению, Сталин умер.
«Скандербег» — один из самых тенденциозных советских фильмов. Своеобразный осколок «большого стиля» сталинской эпохи. Очень смешно: хотя картина и рассказывает об албанской истории XV века, по ней можно четко проследить, с какими странами мы в 1954 году находились в дружеских отношениях, а с какими — на ножах. Решение жюри Каннского фестиваля кажется странным. Но здесь замешана не только политика. Действительно, страсть Юткевича к эффектности и зрелищности шла вразрез с общими тенденциями советского кино эпохи малокартинья. И на общем фоне картины Юткевича, и «Скандербег» в том числе, выделялись сильно.
Между прочим, Юткевич — единственный советский режиссер, трижды удостаивавшийся приза Каннского фестиваля за лучшую режиссуру. Кроме «Скандербега», этот приз дали за «Отелло» в 1955 году — и за «Ленина в Польше» в 1966-м.
Об «Отелло» много писать не приходится. Юткевич еще в 1937 году собирался экранизировать шекспировскую трагедию, но вместо этого был вынужден снимать «Человека с ружьем». Затем были эксперименты с вгиковскими студентами в 1941 году, затем — попытка постановки в театре Охлопкова. И вот наконец в 1955 году картина выходит на экран. Очень красивая картина, цветная. Монологи на фоне скал, бушующее море, трубы гремят, музыка Хачатуряна. Очень хорош Сергей Бондарчук в заглавной роли. Андрей Попов, казалось бы, создан для Яго. Но все равно получилась только грамотная экранизация. Современного фильма не вышло. Яго, запутавшийся в рыбацких сетях, — такими метафорами образца агиттеатра начала 20-х заполнена вся картина. Как-то не увязываются эти рыбацкие сети с развернутыми теоретическими статьями о «пафосе борьбы за правду». Вспомним слова Эйзенштейна: «у него никогда нет слитности и единства творческого процесса».
Юткевич видел, что происходило вокруг И не только на Западе, но и здесь, в Советском Союзе. Кино наконец-то вновь обратилось к проблемам живым и насущным. Содержание было настолько новым и волнующим, что форма отошла далеко на задний план. И что же было делать Юткевичу? Он тоже перешел к глобальным философским задачам. Он должен был оставаться в авангарде.
Итак, какую же выбрать тему, чтобы идти в ногу со временем, чтобы поднимать насущные жизненные вопросы, чтобы сохранить благоприятное положение в «верхах» и не потерять мирового престижа? Так возникает «лениниана».
Пожалуй, один только Юткевич мог додуматься до такой гениальной идеи: взять, казалось бы, уж самую «официозную», сакрально-железобетонную тему и найти для этой темы сверхсовременное, даже модное решение. Причем Юткевич вовсе не рвался в Пигмалионы: он собирался делать современное кино про того самого, набившего оскомину монументального Ленина. Монумент был отлит еще в конце 1930-х стараниями Михаила Ромма и Бориса Щукина. Кстати, и сам Юткевич вместе с Максимом Штраухом внесли небольшую, но заметную лепту: сцена с чайником из «Человека с ружьем» сразу же стала канонической. Ленин давно уже превратился в комического персонажа: эксцентрического, вездесущего, хитроватого и очень обаятельного. Он давно уже перешел в фольклор, в анекдоты, причем, именно благодаря кино, как, кстати, и Чапаев (между прочим, про Сталина анекдотов никто не сочинял). Впрочем, об этом в свое время хорошо написал Евгений Марголит.
Вот именно такого Ленина Юткевич и выбрал «Своей Темой». Удивительное дело: даже в дневниках и письмах Юткевич, только что газетным калейдоскопом 1920-х годов цитировавший западных философов, средневековых поэтов, упоминавший авангардных художников, — едва лишь заходит речь о Ленине, начинает писать штампами из передовицы «Правды»: «Образ этот неисчерпаем, как неисчерпаемо сердце народное в своей любви к этому величайшему Человеку. ‹…› Образ Ленина — самое дорогое, что есть в сердце советского человека». Напиши такую фразу Пудовкин или Довженко — можно было бы поверить в их искренность. Но Юткевич?!
Да ладно искренность — как он не понимал, что эта фраза выбивается из общего стиля — из стиля его жизни? Здесь речь идет не о честности, а об элементарном чувстве вкуса. Порой и оно изменяло Юткевичу Типичный пример — с сетями в «Отелло». Или можно взять его позднюю картину «Сюжет для небольшого рассказа» (1966) — историю романа Чехова с Ликой Мизиновой. Картина — необычная, очень интересно задуманная. Желая дать контраст с «картонным, плоским и фальшивым миром», который окружает Чехова, Юткевич использовал «коллажный» метод: абсолютно реалистическая игра в сочетании с условными декорациями. Например, сестра Чехова поливает из настоящей лейки бутафорские грядки. (Похожий прием недавно применил Ларс фон Триер в «Догвилле».) Но почему-то Эйфелеву башню Юткевич решил обязательно снять в Париже. Равно как и интерьер Александринского театра снимался на месте, в Ленинграде. И то и другое очень красиво снято. Но в том-то и дело, что «красиво» для Юткевича часто заменяло «осмысленно».
Но вернемся к Ленину. На самом деле, первые подступы к этой теме Юткевич предпринимал и раньше: те же «Человек с ружьем», «Яков Свердлов» и «Свет над Россией». Но началом «ленинианы» все же следует считать «Рассказы о Ленине» (1958). Майя Туровская и Юрий Ханютин писали про искусство Юткевича: «Оно, как стрелка компаса, повернуто в сторону нового. Не будем говорить модного — скажем современного». Блестящая формулировка: корректная, но с весьма прозрачным намеком.
В «Рассказах о Ленине» это проявилось особенно заметно. Юткевич, пожалуй, единственный режиссер, отказавшийся от работы с Андреем Москвиным. Дело в том, что в разгар съемочного периода он посмотрел «Летят журавли». Картина еще не получила международного признания; мало того, неясно было, выйдет ли она вообще на экран. Но Сергей Иосифович почувствовал — вот оно, то самое, новое. Не будем говорить модное, скажем современное. А Москвин прекрасно понимал, что стиль Урусевского совершенно не подходит для «Рассказов». В результате на месте Москвина оказался Евгений Андриканис. Он снял картину эффектно, но порой нет-нет да и проскальзывают прямые цитаты из «Журавлей». Даже как-то неловко.
Фильм был выдвинут на Ленинскую премию. Но вмешались «лениноведы», с которыми создатели картины не сочли нужным проконсультироваться. В результате — разгромная статья в журнале «Страницы истории КПСС». И шансы на премию испарились.
На время Юткевич был отстранен от ленинской темы. Но он терпеливо ждал. И дождался. Картина называлась «Ленин в Польше», вышла она в 1966 году. Юткевич наконец-то нашел подход. В «Рассказах о Ленине» они со Штраухом мечтали показать: «Ленин думает», «Ленин и природа»… «Разгадка поэзией» — эти слова Толстого о работе над образом Петра Первого Юткевич часто цитировал. Все это выглядело страшно фальшиво. И получался эффект комический.
И Юткевич пошел обратным путем. Он усилил эксцентрику, доведя ее до логического завершения. И на экране получился живой человек. Он ездил на велосипеде, играл в шахматы, ходил в синематограф, гулял с девушкой по горам. Аза кадром шел внутренний монолог Ленина — прием абсолютно неожиданный. Внутренний монолог — то есть поток сознания. До этого Ленин во всех фильмах разговаривал исключительно лозунгами, перемежая их «зернами народного юмора». Здесь Ленин заговорил по-человечески. Вспомнил Юткевич и Брехта с его концепцией «очуждения».
И эксперимент удался. Во всех смыслах удался. Действительно, такого Ленина ни до, ни после в советском кино не было. Юткевич получил госпремию у нас, приз Каннского фестиваля у них. И при этом картина вошла в репертуар киноклубов, наряду с Тарковским, Бергманом и Висконти. А предметом особой гордости Сергея Иосифовича было то обстоятельство, что западные коммунисты картину ругали, зато крайние левые и крайние правые единодушно признавали победу Юткевича. Мало того, у Юткевича появились последователи. Впервые. Уже год спустя на экраны выходят «Шестое июля» Карасика и «На одной планете» Ольшвангера. Шестидесятники приняли в свои ряды экранного Владимира Ильича. И Сергея Иосифовича тоже. Так что вполне можно усидеть на двух стульях. Если постараться, то даже — с комфортом.
Периодически Сергей Юткевич отвлекался от своей «главной темы». Он руководил студенческим театром МГУ, поставил там вместе с молодым Марком Захаровым «Карьеру Артуро Уи» — и замечательно поставил, вполне остро и современно.
Еще в середине пятидесятых вместе с Валентином Плучеком поставил в Театре Сатиры «Клопа» и «Баню» — двадцать лет этих пьес не было на сцене. И оба спектакля стали заметными событиями театральной «оттепели». Затем перенес «Баню» на экран (вместе с Анатолием Карановичем) — получился вполне симпатичный авангардный мультфильм, — типичный авангардный мультфильм 1960-х годов. Интересно, почему Маяковского Юткевич никогда не пытался «разгадывать поэзией»? Он столько писал о своей любви к этому поэту, о его значении в своей биографии. Дмитрий Молдавский даже книгу про Юткевича назвал «С Маяковским в театре и кино». Но Юткевич совершенно не чувствовал поэзию Маяковского: все, что он пишет о нем, — абсолютно банально. «Маяковский смеется» — так называлась одна из последних картин Юткевича, и, похоже, только этот Маяковский и был ему доступен и близок.
В начале 1980-х он наконец поставил «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока — в Московском музыкальном камерном театре.
И все же последняя, итоговая картина Юткевича (он сам это прекрасно понимал: ему было уже 77 лет, он много болел) вновь рассказывала «о самом главном» — «Ленин в Париже» (1981). Фильм смотрелся дико. Несмотря на всю изобретательность и оригинальность. Шестидесятники были людьми наивными и романтичными: их можно было сагитировать одними лишь средствами искусства. Поколение эпохи застоя было гораздо более циничным. Ну не мог уже образ Ленина на экране вызывать что-либо, кроме смеха. Но Юткевич снимал засучив рукава. Посмотрите на фотографии: он все так же обаятелен, элегантен и полон энергии. И писал он о работе над картиной все тем же кондовым языком передовицы «Правды» конца 1930-х годов.
Тема Ленина в 1981 году звучала как кич. Так что Сергей Иосифович по-своему все еще шагал в авангарде. Кстати, за этот кич давали государственные премии. Ну, что ж: в этом весь Юткевич.
Своим мемуарам «Дневник моих встреч» художник Юрий Анненков дал подзаголовок «Цикл трагедий». Этот подзаголовок вполне подошел бы и к справочнику «Режиссеры советского кино».
Трагедии бывали разные. Трагедия независимой индивидуальности — Эйзенштейн, Довженко, Козинцев. Трагедия отсутствия этой индивидуальности — Кулешов. Трагедия потери личности — Эрмлер, Марк Донской. Еще более страшная трагедия неожиданного ее обретения — Калатозов, Александр Иванов. Трагедия непонимания собственного дара — братья Васильевы.
А главная трагедия была у всех одна — ни один не смог до конца реализоваться. Одним мешали зависть, гонения властей, репрессии, другим — наоборот, успех, власть, монументы.
Вероятно, поэтому и возрос столь резко в последние десятилетия интерес к отечественному кино 1920-х-1940-х годов. Открываются архивы, печатаются дневники и письма, появляются мемуары. И оказывается, что лауреат шести Сталинских премий Иван Пырьев еще с довоенных времен, еще до «трактористов», «свинарок» и «пастухов», мечтал ставить Достоевского, что сверхблагополучный Юлий Райзман (у него Сталинских премий было тоже шесть, и к тому же две государственных — одна Союзная, другая — республиканская) всю жизнь прожил под страхом повторить судьбу своего загубленного товарища Александра Гавронского, что Иосиф Хейфиц только на девятом десятке смог избавиться от «внутреннего милиционера» и вернуться к утерянной свободе рубежа 1920-х-1930-х годов, что братья Васильевы пятнадцать лет (и до, и после «Чапаева») жили мечтой поставить в кино «Пиковую даму» Чайковского. Так постепенно открываются одна за другой трагедии нереализованных судеб. Так появляется «загадка Пырьева», «загадка Райзмана», «загадка Хейфица». Не говоря уж об Эйзенштейне, Козинцеве, Барнете, Рооме… Списку нет конца. Войдут в него почти все.
И лишь один режиссер, добравшийся до «верхушки кинематографического Олимпа», ставивший перед собой сложнейшие эстетические задачи (да и философские тоже — не столько по духовной необходимости, сколько из соображений bon ton’а), писавший книги, вершивший судьбы в меру возможностей — лишь один счастливо избежит этого бесконечного списка. Это — Сергей Юткевич. Загадка Юткевича в том, что у него не было загадки. Он — наверное, единственный в советском кино — реализовался до конца. Он сделал все, что хотел.

Он хотел поставить своего «Отелло» — он сделал это. Пятнадцать лет он шел к этой цели — и остался удовлетворен.
Он хотел рассказать миф о Ленине, миф о революции — революционным языком. А это сложнейшая задача: революционная форма при мифологическом содержании. Нужно ли решать ее — это отдельный вопрос. Но Юткевич решил. Шел к этому двадцать пять лет, но решил. Через запреты, проработки, страх и унижение, но решил. Он поставил «Незнакомку» и «Балаганчик» Блока. Пятьдесят лет мечтал об этой постановке — и осуществил ее.
А еще он создал свою мастерскую. Он вернул на сцену своего любимого — хоть и абсолютно не понятого им — поэта. Он добился чинов, почета, признания — международного признания. Он добился споров, зависти. Он добился имени. Он добился всего, чего хотел. Он все успел…
И ничего не осталось.
В завершенности не может быть загадки. Замкнутый круг — это прекрасно, даже совершенно, но разгадывать его никому не придет в голову. Его уравнение хорошо известно. Замкнутые траектории не уходят в вечность.
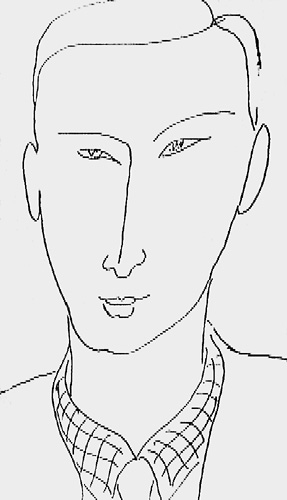
А. Матисс. Портрет Сергея Юткевича
* * *
Это, в общем-то, довольно изящный финал. Но заканчивать на такой ноте не хочется. Ей-богу, формализм был для Юткевича настоящей верой, пускай даже на подсознательном уровне. Не религией, как для многих — это как раз проходит. А именно верой. Он шел на компромиссы, на уступки, он отрекался и, вероятно, делал это с чистой совестью и даже не без удовольствия. И все равно каждой своей новой работой повторял: «А все-таки она вертится!»
Настоящая вера не может не вызывать уважения. Какой бы она ни была. Но что же делать, если вместо Гамсуна все время получался комсомолец Гриша Фокин!
Эйзенштейн оказался прав. В очередной раз.







