Судьба барабанщика

О новейших технологиях и преимуществах их отсутствия.
Самопал как двигатель прогресса
«Барабаниада» была нахальным шагом назад — намеренным шагом. Там все сделано на трех ниточках и веревочках, я сознательно добивался бомжовского изображения, будто снимали
на студии кинохроники
шероховатое звучание классической музыки — а я этого и хотел. Я пытался доказать, что для кино
на самом деле ничего не надо. В фильме никаких изысков изобразительных нет вообще, примитив. И слова я убрал. Намучился в свое время с английскими субтитрами — мутные, белые, сидят
на кадре, отвлекают внимание, портят изображение. Это убивает фильм! Все смотрят только
на буквы, которыми и не
я решил с этим бороться.
«Барабаниада» — самопал, который превращен в стиль, в метод. По мне, всякого рода технические совершенства, а также изыски, ими рожденные — удел богатого кино. Только нашим самопалом
мы можем ответить на их блокбастеры. Противостоять американским технологиям мы можем только своими антитехнологиями.
В «Фараоне» с помощью этих самых достижений науки и техники я опять же хотел сделать историю самопальную: у нас были обычные компьютеры, больше ничего. На этот раз эксперимент заключался в том, чтобы соединить открывшиеся мне «игрушки» телевидения, любовь к театру и свой опыт
в кино. Первый этап — это чистый, откровенный театр. На подиуме, на сцене все это делалось
и снималось на видео. Второй этап — мультипликация. Изображение мы заводили в компьютер, уничтожали объем, убирали тени, плоским все делали. Третий этап — перевод изображения
на кинопленку. Я вот всегда против, когда в кадре соединяют живого актера и нарисованного
персонажа. Это нелепо эстетически. А здесь я попытался сделать наоборот, внутри мультфильма поместить живого человека…
О сценарии. О нелюбви к сюжету, точкам и запятым.
О пользе иных знаков препинания
Когда я пришел в кино, меня с самого начала испугал тип отношений, принятый между сценаристом и режиссером. Сценарист был безраздельным хозяином, как правило, потому что все права были у него. Я делал все для того, чтобы иметь возможность уже на площадке изменить
это два разных вида искусства. Рассказ написать — это как выдохнуть. Сценарий — совершенно особая вещь. Драматургия кино с литературой ничего общего не имеет. Потому и экранизация буквальная не может получиться в кино.
При слове «сюжет» я вздрагиваю. В моих фильмах это всегда самое неполучившееся, самое банальное. В чем и беда моя: говорят, что вот, сюжета нет. А по мне — его можно менять
в любую сторону.
Сюжет — это точки, запятые, точки, запятые. Мне же по душе другие знаки препинания. Никогда не вырезал куски и не клеил куски из соображений стройности сюжета. То, где твой мир
В каждом моем фильме половина материала была снята как бы впустую: я не мог остановиться,
я снимал массу как будто ненужных вещей. Вот они-то и были бы сейчас интересны, но меня всегда загоняли в жесткий сюжет. Я даже пролежал две недели в парализованном состоянии после первой своей картины. Все исчезло, все самое главное.
Это может показаться банальным, но кино — зафиксированная уникальность. Она может быть разной. Вот фильм «Дилинджер мертв» — кино, настоящее кино! А
ты ощущаешь настоящий эстетический восторг. Помните, когда он включает кинопроектор и рукой по экрану водит: там герои живут какой-то своей жизнью, а он их обижает всячески и ласкает:
Это сюжет? Нет, это кино. Тарковский хорошо говорил, что можно просто показывать лицо
человека, странное лицо человека. И до тех пор оно будет притягательным, до тех пор на него будут смотреть, пока не поймут, что он делает. Как только секрет раскрыт, как только догадались —
все, уже не интересно.
Это трудно сформулировать: на самом деле драматургия кино — это система образов, которые нельзя изъяснить словами. Когда смотришь и думаешь: «Ах, ты! И что это такое?»
О том, как важно договориться на берегу…
Работа начинается с читки сценария — как в театре. Подробный обговор всего, до мелочей. Мы собираемся с группой и разговариваем, разговариваем. Мне важно тщательно обговорить все на берегу, добиться понимания. Чтобы уже в тех рамках, которые обозначены, каждый мог проявлять свою свободу. Вряд ли
В кино можно быть индивидуалистом сколько угодно, однако без соратников ничего не получится. Даже если в неведомых глубинах их художественного чутья весь твой замысел имеет шанс потонуть, все равно возникнут обязательно и
…с оператором
Я работал с Федосовым, мощным оператором. С ним были свои проблемы: он не любил, когда
я заглядываю в камеру, и приходилось хитрить, чтобы понимать
Я пытался просто догадаться иногда, у меня ведь и операторское образование еще есть.
Потом уже Федосов меня начал подпускать, иногда даже сам звал. Вот позовет и спрашивает:
ну как, посмотри, нормально? Да, говоришь, нормально. Обязательно говоришь это слово
«нормально», а потом добавляешь — ну вот, может быть, только
так это в появлении монитора на съемках. В «Барабаниаде» он у меня уже был, я мог все видеть
тихонечко, никого не трогая, стоя в сторонке, не задевая ничьих самолюбий. Это очень важные моменты, с крупностями теми же самыми. Все до сантиметра нужно вымерять. Есть средний,
крупный, общий план, это все знают, но это ни о чем не говорит. Есть тысячи градаций одного
крупного плана. Я в первый раз столкнулся с этим на «Нескладухе». Когда актер наигрывает, я чуть дальше камеру отношу и все нормально воспринимается, чуть подношу, — и выглядит кривляньем.
С тех пор зарубил крепко себе это на носу.
…с художником
Я очень много делаю рисунков к каждому фильму. Художников от раскадровок всегда освобождаю, пока не нарисую, — не понимаю, как снимать. Потом с наслаждением перечеркиваю все эти раскадровки, когда они сняты уже наконец, вымучены. К сожалению, редко так бывает, чтобы талантливый
художник был еще и хорошим организатором. С рабочими умел договориться, от цехов добиться качественной работы.
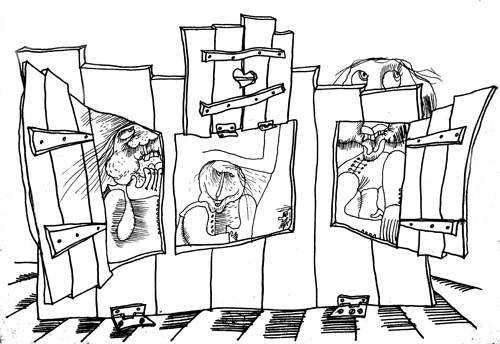
Рисунок Сергея Овчарова
…со звукорежиссером
Я работал с разными звукорежиссерами, а потом мы сошлись с Костей Зариным. С тех пор вместе с ним работаем. У него есть чутье на звук, и мы понимаем друг друга с полуслова. У него возникают потрясающие предложения все время. В «Барабаниаде» герой долго не играл, жил в семье, омещанился, забытовился, а тут вдруг решил вернуться к своему искусству, достал барабан измученный, взял
и стукнул по нему… Получился какой-то неживой звук. Эта сценка длится секунды
Как добиться ощущения того, что барабан умер? Там
тут же оживать, превращаться в живой, говорящий.
О любви — к театру, детству, актерам, шуму, тишине,
человеческим лицам и свободному музицированию.
О скрежете зубовном и малахольности
Я обожал театр, был просто помешан на театре, болезненно его ощущал. В нем мера условности намного выше, чем в кино. В театре больше искусства, чем в кино, конечно. Театр бесконечен. И я хотел «привить» театр к кинематографу. Я же кинолюбитель, я знаю все такие самодельные технологии. Тарковский говорил про запечатленное время, про то, что только в нем и есть специфика кино. Но я не мог смириться с этим. Я сейчас секрет открою, этого никто не заметил: если вы посмотрите все мои фильмы, они все сняты абсолютно фронтально, все играют прямо на камеру, как на сцене. И только в «Левше» у меня появился момент примирения театра с кино. Потому что начинается
все театрально, но потом театр перерастает в кино. Насколько возможно.
Звук для меня имеет огромное значение. Если бы я не был кинорежиссером, наверняка бы стал звукооператором. Рядом с моей музыкальной школой, в Майкопе, был кинотеатр. Жарко, в школе нараспашку все ставни, и в кинотеатре будка киномеханика всегда открыта. Вместо своих гамм
я слышал только фонограммы фильмов. И
и слушали. Фонограмма даже плохого фильма завораживает, в ней есть
Мы записывали разные крики, вопли, волосы дыбом вставали от этих звуков, просто инфаркт можно было схватить. А потом я говорю: «Давай вообще звук уберем». И убрали, совсем. Тишина, ходит женщина, кричит, но звука нет никакого, даже снег не скрипит. Это гораздо страшнее. Или, например, когда голову оторвали градоначальнику: секретарша заходит, голова на столе, ухмыляется, и — никаких тебе писков, визгов, только пикает сигнал точного времени. Так долго пикает, что становится понятно: время остановилось в стране. Отсутствие звука, на мой взгляд, иногда гораздо сильнее его,
и этим надо уметь пользоваться.
Актеры у меня медленно существуют. Потом ускоряю немножко, и пластика становится острой. Но ускорку я не буквально использую: вот в «Оно» иногда даже
что очень нужно
чем актер. У нас люди на улицах, как ни странно, очень кинематографичны, необыкновенно.
Просто хватай и тащи в кадр. Лица —
это очень важно, даже в массовке не может быть ни одного
случайного лица.
Это не второй план
В ритме фильма, разумеется, есть своя музыкальность.
Для меня она сродни музицированию. Когда человек музицирует — не играет
по заученному,
а музицирует — он может
и национальность и время. Бешеный темп, подталкивание — через запятую, через запятую, быстрее, быстрее, чтобы зритель не дремал.
Но для меня ритм связан еще с таким понятием, как отстранение и остраннение. Даже самые высокие вещи я снижаю и делаю смешными. Снимаю очень многие эпизоды ускоренной съемкой,
но хочу, чтобы фильмы получались, напротив, несколько заторможенные, малахольные. Отсюда
эти все сбивки, когда ускоряешь пленку, а актеров играть медленно заставляешь. С одной стороны,
я сжимаю время, а с другой стороны — растягиваю. Можно ведь было загнать действие в бешеный темп, чтобы все катилось, кувыркалось. У меня медленность намеренная, против которой все восстают. Но я скрипя зубами это все равно делаю, потому что тогда возникает как бы псевдотечение времени. В жизни

Об учителях, Дон Кихотах и ветряных мельницах
Мой мастер, Григорий Рошаль, жил в таком доме, где что ни сосед — то сталинский лауреат. Однажды Рошаль сказал: я вижу твои увлечения,
Александр Медведкин.
У него трагическая судьба, конечно. Его забыли, и картины его многие были уничтожены.
А ведь это гений кино. Его фильмы
нет, получится. Вот — встретились. Сломанный человек и мальчишка, который уперся рогом. Он подарил мне книгу: там были уникальные фотографии из его несохранившихся фильмов. Подписал: «Сережа, мы с вами боремся с ветряными мельницами…»
Он мне предложил пойти вторым на его «Окаянную силу». Я сказал: не смогу, не могу быть вторым, могу только сам быть автором. Потом он заболел, я получил от него письмо про то, что было несколько инфарктов и что ничего больше он уже сделать не сможет.
О природе художественного творчества
Некоторые люди с годами становятся защищенными — им кажется, что от ошибок, от неприятностей, от обид всяческих. А на самом деле — от жизни. У других, напротив, нервы на поверхность выходят, и ломается даже тот панцирь слабенький, что удалось
Кинематографисты ведь ценят фильм за его чувственность прежде всего. С годами приходит опыт страдания и сострадания. И вместе с опытом приходит понимание искусства, потому что
эти две вещи и есть искусство. А откуда оно берется — из воздуха, из времени, — я не знаю. Это нам сверху посылается. Над нами там
То, что он вытворяет, то, как он фантазирует, — никому не дано. Поэтому иногда он просто выбирает себе
Но ведь надо уметь еще все организовать так, чтобы реализовать
Все, что я снял, — снял не так, как хотел, не так, как задумывал. Потери гигантские. Потому что и воли не хватает, и грубости. Нужно унижаться, нужно жать самому. Это очень тяжело. В советское время мне было в
«Снять во что бы то ни стало» — это принцип профессионалов. Но — не мой. Мой — лучше
не снимать, чем снять не так. Видишь, что не идет — значит не надо. Значит, в другом месте попробуй приложить свои силы. Все равно рано или поздно вернешься к этому замыслу. А может, это значит, что я не профессионал вовсе.
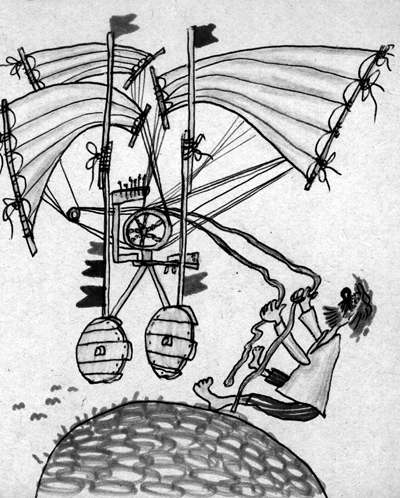
Рисунок Сергея Овчарова
О проблеме поведения
«Нескладуха» была почти полнометражная, а осталось от нее минут двадцать пять экранного времени. Но я такой механизм придумал: что бы с фильмом ни делали, пусть даже эпизоды меняли бы местами, — а все равно смысл никуда не денется. Потому что у меня микродраматургия. Фильм
из клеточек состоит, и внутри каждой клетки уже ничего изменить нельзя.
Цензура и по сей день существует, и она гораздо более жесткая, чем в прежние времена.
Да, был такой момент, когда все уже были готовы к вольностям художника, но это давно кончилось. «Чевенгур» я так и не снял. Никому он не пришелся — ни белым, ни красным, ни зеленым, ни бесцветным, ни обесцвеченным. Все пугаются.
Финансовые причины — только следствие. Не в деньгах дело, а в том, что есть черта, к которой
и
Не снял «Чевенгур». Да, не снял. Не значит, что не сделал. Кто говорил: «Мой фильм готов,
его осталось только снять»? Унижаться, деньги добывать я не могу. Это не гордыня, это просто
неверие в то, что таким способом можно
О барабане
Когда учился еще, болел Чаплином и Китоном, искал свою
Я уже почти его видел: его манеры, походку, внешность, грим. А потом меня сбил с толку этот барабанный человек. Вдруг стал замечать, что в кино очень часто на несколько секунд появляется некий комический человечек с барабаном, и потом исчезает… В одном фильме, в другом, в третьем… Я заболел просто этим человечком, перестал спать, само собой про него все придумывалось, гэги косяком пошли. Ночью вставал, записывал. Все думал: а что такое этот барабан? Им от дождя можно укрыться, плавать на нем, яичницу в нем жарить, белье стирать — ну, это понятно. А на самом деле, что он такое?
Из кожи животного сделан… Это живое существо, часть самого героя. А потом подумал, что этот
Потому что барабан — это ведь не только искусство его или ремесло, он и есть его жизнь.
Записала Инна Васильева
Читайте также
-
Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана
-
Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»
-
Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда
-
Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина
-
Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо
-
Близкие контакты — Итоги XXII «Духа огня»






