Горе от ума
Фильм «Башня. Зонгшпиль» посвящён дискуссии вокруг
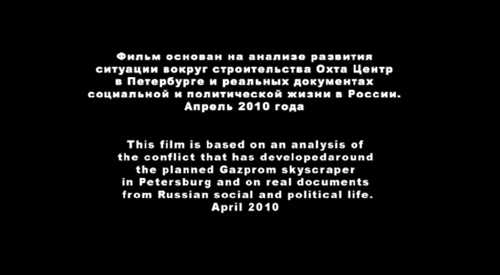
Подзаголовок «Зонгшпиль» недвусмысленно отсылает к традиции немецкого социального театра Брехта, Вайля и Эйслера. С музыкальной точки зрения спектакль вполне ей соответствует. Однако формализм композиции и постановки не находит себе оправдания в результате. Формальность понята топорно — это всего лишь упрощение структуры и полный отказ от драматизма. В «Башне» речь народа положена на белые стихи и превращена в песни, но эти песни лишь воспроизводят бессильный пафос

Кажется, что ирония авторов удавила сама себя. Смешное в жизни перестаёт быть смешным при буквальном воспроизведении в художественной форме. Комичность возникает при утрировании, при подмене характерных свойств, неожиданных сочетаниях ожидаемого и случающегося. Так в «Трёхгрошовой опере» комичен король попрошаек, оказывающийся зажиточным скупердяем, полным классовых предрассудков, бандит, покровительственно беседующий с шефом полиции, и сам шеф полиции, впадающий в ужас от одного слова бандита, а формальная новизна уходит на второй план, поскольку находит себе место в карикатурной реальности Британии. Ничего этого нет в абстрактном мире зонгшпиля группы «Что делать?».
Если продолжать сравнение с произведениями Брехта и Вайля, то стоит попытаться выделить смысловое содержание фильма. В той же «Опере» полный распад общества не является предметом прямого высказывания, а выражен через перевёрнутую общественную структуру, сконструированную сюжетом. К тому же, действия протагонистов приводят к победе одной аморальной доктрины над другой, что служит призывом к переменам в обществе. В «Башне» же обнаруживается полная бессодержательность сообщения: весь фильм состоит из проявлений общественного мнения и официальных идеологий. Авторы не идут дальше констатации противоречий между разными социальными группами, эти противоречия не становятся предметом драматизации или какого бы то ни было переосмысления. Если предполагается, что зритель должен оценить разнородность устремлений различных частей «народа» и «властей», то не совсем понятно, в чём же состоит художественность произведения, если точно такую же оценку можно вынести из чтения подборки соответствующих материалов на «Фонтанке.ру»?
Одни собираются возвести башню, руководствуясь теми или иными мотивами, другие безрезультатно выражают своё согласие или несогласие с этим решением. В финале появляется внешняя сила, которая лишает «власти» власти. Что это? Сатира на безволие общества? На зависимость и изоляцию временщиков? Прославление мудрого (и мудрого ли? или всего лишь переменчивого?) правителя? Ведь развязка лежит вне плоскости разговора о башне, вне плоскости разговора об обществе и его желаниях. Даже вне плоскости разговора о власти. Власть имущие лишены власти? Но

Остаёшься с ощущением, что тебя использовали. Ведь история с башней на Охте — поразительный пример столкновения не финансовых интересов правящей «элиты» с общественными интересами. Это пример столкновения символических амбиций этой элиты с эстетическим чувством образованной части общества. Столкновения, которое, несмотря на свой весьма метафизический характер, вызвало на удивление бурную реакцию. И когда оказывается, что всё, что художник имеет сообщить по этому поводу — это воспроизведение газетных статей и интервью с «населением», то возникает оправданное недоумение.
Считать, что фильм исследует современные речевые практики власти и протеста, невозможно, поскольку такое исследование требует

Волшебство театра марионеток возникает от того, что картонные герои вдруг обретают душу и способность к любви, счастью, страданию и гибели. Ужас политического дискурса нашего времени, наоборот, проистекает из обезличенности не только масс, но и «героев», выдвинутых на авансцену. И если трагизм такого положения вещей не становится предметом искусства, то об истинно политическом искусстве говорить не приходится.







