Жан-Люк Годар: «Это уже не цитаты, а археологические остатки»
Не нужно каких-то особенных поводов, чтобы вспомнить о Годаре, но 3 декабря день особый: классику исполняется 89 лет. «Сеанс» поздравляет любимого режиссера и публикует интервью, взятое у него в 2016 году в Швейцарии Дмитрием Голотюком и Антониной Держицкой.

— Многие склонны были воспринимать «Прощай, язык» как ваше «прощай, кино». По счастью, это не так, и вы об этом уже говорили. Но случайно ли то, что вы как будто прослеживаете в фильме свой кинематографический путь? Вы цитируете свою статью времен Cahiers du cinema, когда снимали еще только короткометражки; берете того же Арагона и того же Аполлинера, что и в «На последнем дыхании» — вашей первой полнометражной ленте; спор у стиральной машины напоминает о «Номере два», сцена насилия в душе — еще менее двусмысленно — об «Имени Кармен», а формула «Абракадабра Мао Цзэдун Че Гевара» заимствована из «Короля Лира» и косвенно отсылает к вашему «маоистскому» периоду. Наконец, мы слышим фрагмент звуковой дорожки вашего прошлого фильма — голос девушки Флорин, которая говорит цитатой из Беккета. Это могло бы походить на художественное завещание.
Краткая история «Кайе дю синема» купить
— Да, но я ни о чем таком не думал. Само собой, у меня есть какие-то воспоминания, источники, к которым я возвращаюсь, фразы, которые можно было бы назвать любимыми. Если я могу их использовать, я их использую. К слову о Беккете, я читал, что, когда он только начинал печататься, его аудитория насчитывала всего двести-триста человек. Известность пришла к нему значительно позже. А «Прощай, язык» я мыслил как… Это все-таки о языке. Я прочел книгу одного немецкого философа начала века, которая так и называется — «Язык». В целом, в ней говорится что-то вроде… как же там было… подождите, я ее принесу. (Приносит книгу Фрица Маутнера.) В конце он говорит: «Мы совершили бы искупительный акт («искупительный» звучит немного по-христиански, но… — ЖЛГ), если бы смогли осуществлять критику вплоть до добровольной, тихо отчаянной смерти нашего мышления-говорения (того, как мы мыслим и говорим — ЖЛГ) и если бы для осуществления этой критики нам не потребовались слова, которые обладают лишь видимостью жизни». Я хотел сказать этим относительно кино или образа, что мы живем в такую эпоху, когда слова или то, что люди называют «языком» (langage), отсылают к образам, а не исходят из них, чтобы достигнуть речи (parole). Слова вечно все собой покрывают — мы видим это на телевидении и не только. Вот что я подразумевал. «Прощай, язык» — это «прощай, наша манера мыслить-говорить» (если это возможно, если у меня получилось…). А в Швейцарии — во всяком случае, здесь, в краю Во (в кантоне Во, который принято называть «краем») «прощай»…
— Да-да, означает еще и «привет».
— Да. Как вас зовут?
— Антонина.
— Если мы встретимся на улице, я скажу вам: «Адьё, Антонина». И то же самое, если захочу попрощаться — все зависит от тона.
Когда работаю над фильмом. Главным образом во время монтажа. В какой-то момент я говорю себе: «Здесь нужна музыка», — и иду искать.
— В фильме вы вспоминаете также размышления Кириллова о самоубийстве…
— Да, когда я был совсем молодым, меня очень интересовал этот вопрос. Позже я к нему вернулся. Кстати, я назвал Кирилловым одного из персонажей «Китаянки». Это из Достоевского — из «Бесов», если не ошибаюсь, которых я никогда не читал целиком. Другие его романы читал, а этот — нет. Кроме того, когда я был еще школьником, вышло одно из первых философских эссе Камю — «Миф о Сизифе». Оно начиналось фразой, которую я использовал в каком-то фильме — в «For Ever Моцарт», кажется: «Самоубийство — единственная по-настоящему серьезная философская проблема».
Канны-2014: Годар говорит «нет»
— И в «Нашей музыке».
— Возможно. Да, это фразы, которые перестали быть цитатами и стали частью меня. Я произношу их так, словно бы сам их придумал. (Смеется.)
— Но не пытаетесь при этом создать никакой преемственности между фильмами.
— Нет-нет, абсолютно. Точнее, какая-то связь неизбежно возникает, но иногда это мост к тому, что было, а иногда — к тому, что будет.

— Во всяком случае, между «Фильмом Социализм» и «Прощай, язык» есть одна явная — остроумная и слегка эпатажная — связка: в первом фильме мальчик Люсьен объявляет, что, когда речь зайдет о равенстве, он будет говорить о дерьме, а во втором Маркюс и Жедеон выполняют его обещание.
— Да-да. Эта история с дерьмом отсылает еще и к Антонену Арто, который утверждал, что, говоря о бытии, мы говорим о дерьме (он был тем еще антихайдеггерианцем). Кроме того, по-французски, когда кто-то ошибается или мелет глупости, тоже можно сказать: «Это дерьмо». То есть то, что вылетает изо рта, сродни тому, что выходит из задницы.
— В титрах «Прощай, язык» отсутствует Анн-Мари Мьевиль.
— Да, мы теперь просто разговариваем. Иногда она высказывает свое мнение, но…
— То есть вы все-таки продолжаете обсуждать с ней то, что делаете?
— Не слишком активно, но, как говорится, это не молчание.
— А что касается новой музыки в фильме — свежих записей Добринки Табаковой, Валентина Сильвестрова — это она вам ее показала?

— Нет-нет, она тут ни при чем. Это музыка, которую я получаю от ECM. Время от времени она на меня воздействует. Они регулярно отправляют мне свои записи, и я использую иногда какие-то фрагменты. Тем более что с ECM потом проще договариваться насчет авторских прав.
— Но платить все равно приходится?
— О да, платить приходится. Как говорит Эдди Константин в «Германии девять ноль»: «Всегда любить, всегда страдать, всегда платить». (Смеется.)
— Значит, вы сами прослушиваете все, что они присылают?
— Не сразу. Когда работаю над фильмом. Главным образом во время монтажа. В какой-то момент я говорю себе: «Здесь нужна музыка», — и иду искать. Было бы хорошо сделать из музыки что-то… Не использовать ее в качестве аккомпанемента, как в американских фильмах, где она совершенно невыносима. Даже у Хичкока музыка невыносима — по крайней мере, для меня.
— Мы, со своей стороны, очень ценим то, как вы работаете с музыкой, со звуком вообще. Будучи музыкантами, мы и вас считаем таковым.
— Нет, я не музыкант, потому что я не слушаю для себя. Может быть, раньше я и много слушал — особенно классическую музыку, — но не теперь. Я слушаю лишь тогда, когда что-нибудь ищу — звук, который был бы эквивалентен изображению и ближе к речи в глубоком смысле слова. Ведь ни у немцев, ни у американцев нет такого понятия как «речь» (parole), они говорят Worte или words. Даже Гамлет говорит: Words, words, words. А речь… Помню, Мальро писал (я использовал это в одном фильме… в «For Ever Моцарт»… нет, не вспомню, в каком): «Когда мы слышим свой голос…»
Histoire (s) de Godard
— «…откуда он идет?»
— «…мы слушаем его не ушами, как чужие голоса, а… Когда мы слушаем свой голос, он идет из горла». Не из мозга или откуда-нибудь еще. Забыл, в каком фильме это было. Но именно «For Ever Моцарт» стал рубежным моментом, с которого началось мое постепенное приближение к этому «прощай, язык», продолжившееся в трех-четырех последующих фильмах.
— Мне нравится иронично-помпезное начало «Моцарта»: название фильма возникает с первым — взятым на фортиссимо — аккордом классицистского концерта для фортепиано с оркестром. Но самое замечательное, что это не Моцарт, а Бетховен.
— Я уже не помню.
Имена теперь часто от меня ускользают, но это не значит, что я теряю память. Просто у меня перед глазами встают лица или фразы — но не как звучащие слова, а как картины.
— Словно мы с легкостью путаем одного с другим. Я еще потому так акцентируюсь на этом комическом диссонансе между видимым и слышимым, что он по-своему отражает ключевую для фильма оппозицию ангажированного и чистого искусства, ведь мы знаем, что Бетховен был гораздо более политизированной фигурой.
— Да-да, он видел императора Наполеона, когда тот отправлялся в Россию. Но это все уже даже не цитаты, а, скорее, археологические остатки. Фильм, который я сейчас делаю, я называю… Будь это литературное произведение, я назвал бы его «опытом моральной археологии». Но «опыт» звучит слишком литературно, поэтому я ограничился просто «моральной археологией». Это собранные вместе фрагменты из разных фильмов, в которых мы ищем… Как у той итальянской пары — не знаю, знакомы ли они вам, — которая занимается археологическими исследованиями. Забыл, как их зовут. Представители андеграунда. Нет, не вспоминается… Имена теперь часто от меня ускользают, но это не значит, что я теряю память. Просто у меня перед глазами встают лица или фразы — но не как звучащие слова, а как картины. Даже в обыденной жизни, когда я говорю себе: «Пойду выкурю сигару», — я сначала вижу образ этой сигары, а слово приходит потом. Или я говорю: «Пойду пообедаю в ресторане» — но прежде я мысленно вижу этот ресторан.
— Это ближе к тому, что вы называете языком.
— Да.
— В 80-е вы как будто бы перешли от политики к более общим, внеисторическим темам, но никогда не переставали быть ангажированы окружающей реальностью — в том числе и политической, которая с середины 90-х стала активно отвоевывать свои позиции в ваших фильмах. Можно сказать, что теперь в вас соединились оба эти начала — и Моцарт, и Вики.
— Кто?
— Вики, режиссер из «For Ever Моцарт».
— Ах да, Вики, Вики… Да, но это пришло еще и с возрастом. И потом я всегда… еще с молодости, когда в силу того, что я вырос в очень реакционной среде — протестантство и все такое, — мне приходилось самому для себя открывать Вторую мировую войну… Я ведь даже не знал… Помню, я заинтересовался Толстым, «Войной и миром», уже после того, как немцы вторглись в Россию. В те годы родители ничего мне не рассказывали, хотя работали в «Красном кресте», помогали детям. Помню, что я одинаково хорошо знал имена немецких и русских генералов, ставил флажки на карте и так далее. Помню названия некоторых битв —например, взятие Ростова. Все это осталось у меня в памяти потому, что период между моими 15-ю (а то и меньше) и 25-ю годами я открывал для себя сам, задним числом. И если я на какое-то время политически активизировался, то уже после. Меня всегда больше интересовало — и со временем я в этом только утвердился — являться после, а не во время. Ехать в Сараево после того, как все закончилось, ехать в Палестину в тот момент, когда все начало заканчиваться — палестинская революция и так далее. Тогда как все политические активисты… В 68-м на Кубе собрались многие интеллектуалы, чтобы чествовать Кастро и компанию. Я тоже получил приглашение. Но я не хотел ехать туда вместе со всеми, я поехал один, на свои деньги. Вот так. Всегда после, после.
— Думаю, бывали исключения. Например, Рауль Кутар рассказывает, что, снимая «Страсть», вы хотели досадить Жискару д’Эстену…
— Пфф… Может, я и говорил что-то такое. Но Рауль, конечно, плохо меня понимал. И по-своему интерпретировал мои слова. Он ветеран Индокитая, как Шендерфер и другие. Помню, на съемках «Безумного Пьеро»… я тогда еще не вполне определился со своей позицией, а его в равной степени раздражали как евреи, так и арабы. Он слегка предпочитал евреев арабам, но не выносил ни тех, ни других. (Смеется.)
Жан-Люк Годар: «Это не книга с картинками, это образ»
— Если я не ошибаюсь, вы сначала надеялись закончить «Тренируй правую» к парламентским выборам 86-го года.
— Возможно.
— А главными героями должны были стать двое полицейских — один правых, другой левых взглядов.
— Не помню. Но это все внешнее. Я часто отстаю от других. Я начал делать фильмы только к 30-ти годам, а моя жизнь и мои мысли всегда отставали от кино. Если представить это в виде поезда, кино было локомотивом, а политика и все остальное — последним вагоном. Только начиная с «Моцарта» и особенно с «Фильма Социализм» одно поравнялось с другим, как и в моей личной жизни, поскольку личная жизнь соединилась с кинематографической.
— В финале «Моцарта» мы становимся свидетелями того, как так называемое «чистое искусство», l’art pour l’art, берет верх над ангажированным (в лице Вики с его «Роковым болеро»). Это ирония?
— Не знаю.
— Считаете ли вы, что искусство, слишком привязанное к политической реальности, несет поражение в себе самом?
— Да, пожалуй. В каком фильме это было? Забыл, как называется фильм, который я делал в Сараево… «Наша музыка». Там снимается один малоизвестный философ, Жан-Поль Кюрнье…
— Да-да…
— Он недавно написал интересную книгу, которая называется «Пиратская демократия». Не знаю, опубликована она уже или нет. В ней рассказывается, что настоящая демократия существовала во времена пиратов, в их кругу. Или на кораблях, среди моряков, которые взбунтовались и стали пиратами, о которых в Голливуде снято множество фильмов типа «Мятежа на «Баунти»» и которые кончили тем, что осели где-нибудь в Полинезии с девицами и так далее. (Смеется.) Но у них было что-то такое, чего нет сейчас. Так вот, я поручил Кюрнье фразу одного из современников Сартра, менее известного, по имени Клод Лефор, который говорил…
— «Современные демократии…»
— Точно. «Современные демократии, которые делают политику отдельной областью мысли, предрасположены к тоталитаризму». Это одна из тех фраз, которые сейчас принято называть ключевыми. Но я люблю возражать, что они, может быть, замочные, а не ключевые. Потому что когда мы говорим «ключ к сновидению»… Даже Фрейд постоянно забывает о замке. Иными словами, он забывает об образе.

— В «Прощай, язык» вы цитируете также Жака Эллюля, который говорит о второй победе Гитлера посредством техники и технарей. Ближе к концу фильма вы приводите диалог из «Франкенштейна», в ходе которого главный герой, несмотря на угрозы, отказывается создавать еще одного монстра (можно было бы сказать — технического монстра). А пару минут спустя в кадре появляется начерченный лотарингский крест — символ Сопротивления.
— Да. Он был символом де Голля, еще до Сопротивления.
— Так или иначе, вы тем самым вписываетесь в ряды Сопротивления, но на территории искусства.
— Да-да.
— Это напоминает мне о Жане-Мари Штраубе, который полагает, что абстрактная музыка Веберна политичнее музыки Берга с его «Воццеком», а одним из своих самых политических фильмов называет «Хроники Анны Магдалены Бах».
— Да, я понимаю, о чем он говорит. Кстати, Штрауб живет здесь.
— Здесь — это где?
— В Ролле. Возможно, он тяжело болен, не знаю. У него есть подруга, которая живет с ним с тех пор, как умерла Даниэль Юйе. Мы с ним изредка виделись. Сейчас — и того меньше, потому что нам особенно нечего друг другу сказать. Вот так. Время от времени он присылает мне свои фильмы.
Мы немного утратили (и даже не немного, но это нормально, ничто не стоит на месте) чувство пространства, которое было присуще ранним фильмам, до Второй мировой. Потом все стало более плоским и совсем не таким, как в живописи.
— Вы цените его новые фильмы?
— Я ценю его работу, в отличие от остальных. Я вижу его скорее как скульптора, который высекает из камня. Меня смущает, что он всегда идет от текста, но текст для него — словно камень, который он обтесывает у нас на глазах. Впрочем, это мое личное мнение. Он тут снял небольшой фильм о Монтене, который все находят никчемным и невыносимым — с этими его бесконечными планами, где ничего не происходит. (Смеется.) Но я считаю, что в нем есть что-то от скульптора… что-то от Микеланджело. Сейчас, выступая в роли критика, я прибегаю к тому языку, от которого сам же пытаюсь избавиться. Но я бы сказал как-то так.
— Есть те, кто ратует за чистоту киноязыка, за то, чтобы освободить его от влияний других видов искусства: отойти от живописи, не использовать музыку и так далее. Вы же идете скорее в обратном направлении, ваше кино — это своего рода перекресток искусств.
— Да, можно и так сказать.

— А иногда вы нарочно размываете границы между ними, сравнивая «Нашу музыку» с книгой, определяя «Фильм Социализм» как трехчастную симфонию или говоря по поводу вашего нового проекта «Проба синего» (Tentative de bleu), что зритель находится как бы внутри скульптуры. Там действительно задействованы три экрана?
— Пока нет. Если мне удастся его закончить, потом, возможно, мы попытаемся его укоротить, но укоротить за счет распределения по трем экранам, то есть путем деления на три. (Смеется.) И сделать… как это называется… инсталляцию, что очень несложно. Я склоняюсь к такому решению, потому что меня беспокоит плоскостность экрана. Мы немного утратили (и даже не немного, но это нормально, ничто не стоит на месте) чувство пространства, которое было присуще ранним фильмам, до Второй мировой. Потом все стало более плоским и совсем не таким, как в живописи. Иногда хорошая фотография выражает больше, чем кинокадр. И даже чем тревелинг. Помню, Кокто говорил, что глупо делать тревелинги, потому что они обездвиживают изображение.
— Вы теперь монтируете по ходу съемок?
— Не совсем. Иногда… Сейчас, во всяком случае, я начинаю со сценария — точнее говоря, с того, что американцы называют storyboard (раскадровкой), только последовательность планов в ней определяется не хронологией, а скорее чем-то бессознательным. Это все равно что эскиз для классического художника. Я часто предпочитаю эскизы Делакруа его большим полотнам, потому что в эскизе ощущается движение, открытость, тогда как картина статична, и на нее налагается текст. Мы говорим: «Свобода, ведущая народ». Но когда он делает эскиз, мы видим свободу в действии.
— Значит, вы еще не приступили к монтажу нового фильма?
— Только начинаю. Следуя тому, что я называю идеей сценария, наброском сценария. Где нет ничего, кроме фотографий. Раньше тоже так делали. Я знаю, что Фриц Ланг, когда он готовил свои первые американские фильмы, начинал с репортажа о выбранном регионе или о чем-то еще. И только потом брался за сценарий. Он не пытался сразу писать. Думаю, его можно сравнить с музыкантом, который работает за фортепиано, прежде чем написать свою симфонию, потому что писать — это писать. Вот почему мне всегда нравился фри-джаз (хоть я никогда и не увлекался им по-настоящему) — там нет ничего написанного.
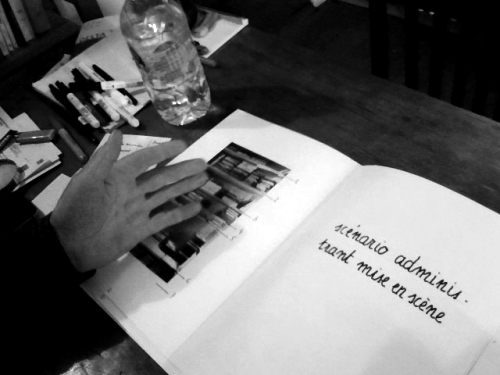
— «Проба синего» — действующее название?
— Нет, теперь это просто «Образ и речь» (Image et parole), а в скобках: «Папирус». Как будто мы нашли старый папирус, склеили его из кусков. Те двое итальянцев делают как раз что-то подобное: собирают целое из фрагментов чужих фильмов, снятых на 35 мм. Всматриваются в них кадр за кадром. То есть для них это археологическая находка. Так они могут обнаруживать какие-то детали — фрагменты разбитой вазы и так далее. Потом они, археологи, чистят их своими кисточками и видят, что же это такое. Их подход напоминает мне то, что называется археологическими раскопками; он позволяет им открывать, что некогда существовал такой-то город, существовала такая-то вещь — создавать ощущение реальности. И я занимаюсь сейчас тем же самым. Я нахожу очень глупым, что все фильмы, которые демонстрируются здесь, на ньонском фестивале… (Смеется.)
— Такой существует?
— Да, и он называется «Видения реальности».
Я пришел значительно позже других — Трюффо, Риветта или Ромера. Я следовал за ними, наблюдал, ничего не говорил.
— То, о чем вы сейчас говорите, как правило, обозначается англоязычным термином found footage.
— Да-да, found footage.
— В этом жанре работают, в частности, некоторые австрийские режиссеры — например, Густав Дойч.
— Я его не знаю. Я ничего не смотрю. Бывает, я читаю в газете о каком-нибудь фильме и прошу мне его прислать на DVD. Чтобы оставаться немного в курсе. Анн-Мари уже и того не делает.
— И как вы выбираете эти фильмы?
— Я говорю себе: «Возможно, здесь есть…» Это немного отдает утопией или ностальгией, но я надеюсь найти в фильмах что-то такое, что мы когда-то там обнаруживали и, в той или иной степени обманываясь, превозносили в Cahiers du cinema. В какой-то момент мы вдруг сказали себе: «Так, значит, это возможно» — относительно французского кино, на котором мы росли. Я пришел значительно позже других — Трюффо, Риветта или Ромера. Я следовал за ними, наблюдал, ничего не говорил.
— Но «На последнем дыхании» появился меньше, чем через год после «Четырехсот ударов» — не намного позже.
— Да, но после. Скажем так, я скорее второй.
— Прошлое название вашего нового проекта — «Проба синего» — наводит на мысль о живописи.
— Да, я думаю, что в конце будет отсылка к живописи, но, в целом, это не так очевидно, потому что я делаю очень длинное вступление. Как будто, прежде чем увидеть руку целиком, мы должны рассмотреть в отдельности каждый палец. Так, я даю сначала пять элементов: война, путешествия, закон (по Монтескье, «О духе законов»)… еще какой-то и последний, который называется «Центральный регион», в память об одном из фильмов американского андеграунда, — а потом уже идет рука. Это небольшая история, заимствованная мной из одной небезынтересной книги и озаглавленная как «Счастливая Аравия» — таким эпитетом путешественники XIX века (например, Александр Дюма) наградили этот ныне бедствующий регион, Средний Восток. Действие разворачивается в одной из местных стран, где не находят нефти; людей такое положение дел устраивает, но их правитель хочет добиться господства над другими арабскими странами. Он замышляет псевдореволюцию, которая в конечном итоге проваливается, и все возвращается на круги своя. Я снимаю без актеров, они мне здесь не нужны. Но есть рассказчик, будто бы зачитывающий фрагменты из книги, и мы в общих чертах понимаем историю, которая является своего рода притчей.
— Значит, там вообще не будет актеров?
— Ни одного. Мой помощник, Жан-Поль Баттаджья, говорил мне: «Послушайте, вы могли бы взять в качестве рассказчика Жан-Пьера Лео, это было бы очень хорошо». Но я отвечал, что Лео будет читать, как актер, а мне не нужны актеры. Так что либо я сам это сделаю, либо приглашу кого-нибудь неизвестного.
— Поскольку вы упомянули Лео, мне вспомнилась Анна Вяземски и один весьма странный связанный с ней проект. Вы в курсе, что Мишель Хазанавичус1…
— О, даже слышать об этом не желаю! Мне это неприятно. Хотя, в сущности, наплевать.
1 Речь идет о фильме «Устрашающий» (Le redoutable), который Мишель Хазанавичус снимает по автобиографическому роману Анн Вяземски «Год спустя». Главные действующие лица — сама Вяземски и Годар. Выход фильма запланирован на 2017-й год.
— Это кажется довольно глупой затеей.
— Да-да. Но это та же фирма, Wild Bunch, что продюсировала мои последние фильмы. Они даже не решились со мной об этом заговаривать. (Смеется.) Глупая затея, глупая.
— Но от вас в данной ситуации ничего не зависит?
— Нет-нет, это же люди, люди свободны.
— Вы следите за тем, что происходит в современном искусстве?
— Нет, не слежу.
— Я имею в виду последние лет сорок-пятьдесят. Условно говоря, после живописи.
— Нет.
Жан-Люк Годар: «Это не книга с картинками, это образ»
— Очень огрубляя, можно сказать, что современное искусство выдвигает на первый план идею и спроваживает форму — точнее говоря, прекрасное. Насколько для вас сейчас важно прекрасное, ищете ли вы сознательно красоты?
— Теперь нет. Может, какой-то верности передачи, но не обязательно. А что касается всех этих современных вещей… Когда я на них смотрю, я вижу, что сначала идет слово, а потом — исполнение. Они говорят: «Мы сделаем инсталляцию, которая будет значить то-то и то-то». Этим сейчас занимается Аньес Варда, этим занималась… как ее звали… бельгийская кинематографистка, которая недавно умерла… Шанталь Акерман. Но это всё слова, так не годится.
— Мне нравится определение красоты, которое дает немецкий композитор Хельмут Лахенман: «Красота — это отказ от привычки». По-моему, оно применимо и к тому, что вы делаете — особенно начиная с «Фильма Социализм».
— Да.
— В «Нашей музыке» вы вкладываете в уста боснийской студентки вопрос: «Могут ли маленькие цифровые камеры спасти кино?» Значит ли это, что вы уже тогда предполагали возможность их использовать?
— Ну, тогда их еще не существовало, не так ли? Но я почти с самого начала тяготел к небольшим вещам — к 16 мм и так далее. К простоте и минимуму средств. Сейчас мы делаем фильм втроем, и этого вполне достаточно. Если бы мне пришлось… Иногда я даже хотел… Как-то давно я попытался сделать в Голливуде один фильм, но из этого ничего не вышло…
— The Story?
— Нет, гораздо раньше. Хотя нет, не так давно. По одной нашумевшей книге — не помню уже, что это было. Что-то очень хорошее. Я сказал продюсеру-американцу: «Я хотел бы сделать этот фильм, но только в качестве постановщика. Вы подберете актеров, декорации, все остальное, а я займусь постановкой». Он не согласился.
— И когда это все-таки было?
— Лет десять тому назад.
— Почему вы хотели поставить себя в такие рамки?
— Чтобы попробовать поработать с тем, что остается. Но это еще и вопрос усталости, возраста. Я устал все время быть на бегу, делать тысячу вещей. Мне это не интересно, я больше не хочу. Даже втроем работать утомительно. Потому что двое других — мои хорошие друзья, незаменимые в повседневной жизни, но что касается разговоров о кино, их просто нет. Мне этого не хватает. В такие моменты начинаешь разговаривать сам с собой. И это тоже становится привычкой. (Смеется.)
— Можно ли сказать, что эти маленькие цифровые камеры дают вам то, что вы хотели получить в свое время с помощью «Аатона 35–8»2?
— Да, пожалуй.
— Сочетание компактности…
— И качества? Теперь мне это безразлично. Поскольку то, что я делаю в новом фильме, — это скорее археология, я не забочусь о качестве изображения.
— В целом, у вас есть два подхода к цифре. С одной стороны, вы отталкиваетесь от брака, чтобы создавать на его основе богатые фактуры, — что можно было бы назвать «цифровым экспрессионизмом»…
— Да.
2 В конце 70-х Годар заказал инженеру Жан-Пьеру Бовьяла, основателю фирмы «Аатон», 35-мм камеру, которая обладала бы малыми размерами и технической простотой super 8 (отсюда и название) и позволяла бы неспециалисту делать спонтанные короткие планы, получая при этом изображение «самого высокого разрешения, какое возможно в кино или на телевидении». Однако конечный результат, который уже сравнительно мало походил на super 8 и, по мнению Годара, скорее решал технические проблемы операторов, чем удовлетворял нуждам режиссеров, его разочаровал: «Я хотел получить Артемиду, чтобы охотиться за изображениями, а получил Юнону».
— А с другой, вы используете ее обычным образом, продолжая делать то, что делали раньше на 35 мм. Значит ли это, что такой фильм как «Наша музыка», например, можно было бы снять на цифру?
— Да, это возможно.

— То есть вам сейчас все равно?
— Мне все равно, и потом цифра просит меньше денег. На мой новый фильм Wild Bunch дает (обещает) 300 тысяч евро. Сделать его нужно за два года (срок довольно небольшой — всего год на пять пальцев и год на руку). Если этого не хватает, я отдаю продюсеру то, что получаю с телевизионных показов во Франции, и не прошу возвращать. То есть, имея 300 тысяч, мы должны сделать фильм и оплачивать работу трех человек, включая меня, в течение двух лет. Но если я буду платить нам из денег фильма, на это будет уходить по 9 тысяч в месяц, а месяцев — 24. И на фильм, таким образом, ничего не останется. Поэтому мне и приходится давать свои деньги продюсеру — по счастью, у меня есть небольшая сумма. Я не хочу ничего у него просить. Вот что такое экономика фильма. Было бы интересно посмотреть, может ли большая экономика функционировать подобным образом.
— Но в плане изображения — света, глубины кадра — цифра ведь отличается от пленки?
— Да-да. Но тут еще важно, освещаем мы или нет и так далее. Если да, я всегда использую только то, что имеется. Мы это убираем лишь в случае… Я стараюсь все сохранять. Но с Фабрисом и Жан-Полем это непросто, потому что они ведут себя как заправская группа — приходят и раскидывают повсюду свои вещи. Я говорю им: «Это декорация, не нужно ничего трогать, а вещи лучше убрать куда-нибудь подальше». Но есть много такого, что мы не можем делать. И мы не пытаемся это делать, вот и все.
— А почему вы сменили формат изображения?
— Да просто потому, что все телевизоры сейчас такие.
— Однако несколько лет назад вы отправляли в Cahiers лист с двумя кадрами из «Нашей музыки», представленными в трех разных форматах; вы хотели показать, как 16:9 порабощает личность и маскирует правду.
— Да, это нехороший формат, но он принадлежит нашему времени. Я хочу сказать, что художники всегда исходили из того, что было в их распоряжении. Например, появление тюбиков краски сильно изменило импрессионизм и так далее. Мы имеем дело только с реальностью, а какая она, уже не столь важно. И потом, если я записываю фильм на DVD, он воспроизводится нормально, меня все устраивает. Тогда как в кинотеатрах может быть тысяча разных… Да что далеко ходить — вы не найдете двух телевизоров, которые показывают одинаково. Надо было бы это как-то унифицировать, чтобы мы заведомо знали, из чего исходим и к чему стремимся, если хотите.
— В начале «Прощай, язык» мы видим какой-то загадочный объект с элементами 3D-камеры. Он появляется всего на несколько секунд в блуждающем луче света, а незадолго до конца фильма оказывается на обложке книги Ван Вогта, и это вы его туда поместили — настоящая обложка выглядит иначе.
— Да, я переделал обложку Ван Вогта, потому что мне нужно было название, а картинка не подходила. Я заменил ее изображением индейского тотема или чего-то в этом роде (не помню уже, где я его нашел) — мне показалось, что так лучше. Будь я издателем этой книги, я бы так ее и выпустил.

— Есть много известных тандемов режиссер/оператор. У вас в 60-е сложился такой тандем с Раулем Кутаром. Думаю, и Фабрис Араньо останется с вами надолго — тем более, что он отнюдь не только оператор.
— О, Фабрис занимается всем понемногу. Он отвечает — в техническом плане — за окончательный монтаж. Иногда я прошу его сделать что-то по-своему, и это дает мне новые идеи. Или же мы оставляем его вариант, и он, скажем так, доводит его до кондиции. На съемках он отвечает не только за изображение, но и за звук. Как в документальном кино. Меня всегда удивляли документальные фильмы, где есть журналист, который говорит, и оператор, который снимает, — не понимаю, почему это не может делать один человек.
— Вот почему вы перестали работать с Франсуа Мюзи3?
3 Звукорежиссер, единственный почти бессменный участник съемочных групп Годара с 1981-го по 2010-й год.
— Нет, это давно уже. Мне больше не подходят его методы — он работает по классической схеме, озвучивает классические фильмы. Это отдельный процесс. Но мы отлично ладили, я всегда был доволен нашим сотрудничеством. А сейчас… Я вам покажу, на чем я здесь работаю — это очень старая аппаратура, которая часто сбоит, а то и вовсе не запускается. Я, конечно, мог бы, вместо того, чтобы возиться с семью-восемью машинами, которые занимают целую комнату (и которым уже лет по 10–15), научиться пользоваться планшетом и всеми этими монтажными штуками. Фабрис даже предлагал мне какую-то программу, которая монтирует по принципу случайности, и где от тебя ничего не требуется — она делает все сама. Но это не… В общем, нет.
— Мюзи был звукорежиссером еще на «Фильм Социализм».
— Да, в последний раз. Потому что мы снимали в… Я даже не помню, с ним ли… Хотя да, все верно, он писал звук, потому что я хотел иметь качественный звук в эпизоде с гаражом. По крайней мере, чтобы все было разборчиво. Я был не очень уверен в том, что делаю. Равно как и он. Кроме того, Фабриса еще не было здесь по-настоящему, если хотите.
— За последние 35 лет вы поработали со многими операторами — помимо Кутара это, в частности, Вильям Любчански, Каролин Шанпетье, Жюльен Ирш… Почему вы их меняли? Почему, например, вы не продолжили сотрудничать с тем же Кутаром, хотя он, по-моему, был очень хорош в «Страсти» и «Имени Кармен»?
— Ну, мы с ним сделали немало фильмов. Потом я пошел дальше, а он остался на месте. То же самое с Любчанским и другими. Их было много. Мы вместе начинали. В какие-то моменты… У Любчанского была в ассистентах Каролин, у Каролин был Жюльен, так я и переходил от одного к другому, пока это не прекратилось… (Смеется.)
— Вы иногда оставляли Каролин Шанпетье одну на съемочной площадке, вы даже отправили ее в Москву снимать сцены для фильма «Дети играют в Россию».
— Да-да, и она прекрасно справилась. Это человек, которому хотелось все делать, все обсуждать. Я ей сказал: «Хочется? Пожалуйста. Вот тебе пачка денег, поезжай в Москву и сними смерть Анны Карениной. Я не буду этим заниматься».

— Она была очень напугана.
— Еще бы.
— Относительно нового фильма вы говорили, что вам придется поехать в Санкт-Петербург…
— Это было в самом начале, еще до того, как я приступил к работе. Дело в том, что второй эпизод, второй палец, основан на книге французского писателя, которого зовут… Вот видите, имя крутится в голове, и книга стоит перед глазами, а вспомнить не могу… Который был французским послом4 в Санкт-Петербурге во времена Наполеона…
4 В действительности — сардинским.
— Жозеф де Местр.
— Жозеф де Местр. Это книга о войне — правого толка, абсолютно нацистская. В общем, я ее использую. И поначалу, когда проект был еще совсем другим, я думал, что поеду в Петербург, мы найдем молодую пару… Но, не знаю почему, я постепенно отказался от этой идеи.
— Последний вопрос: когда вы планируете закончить фильм?
— Я все еще надеюсь успеть к концу года, согласно контракту. Хотя мы, конечно, уже немного отстаем.
Ролль, 22 мая 2016
Читайте также
-
«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым
-
«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем
-
«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым
-
«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер
-
«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой
-
Кризис как условие








