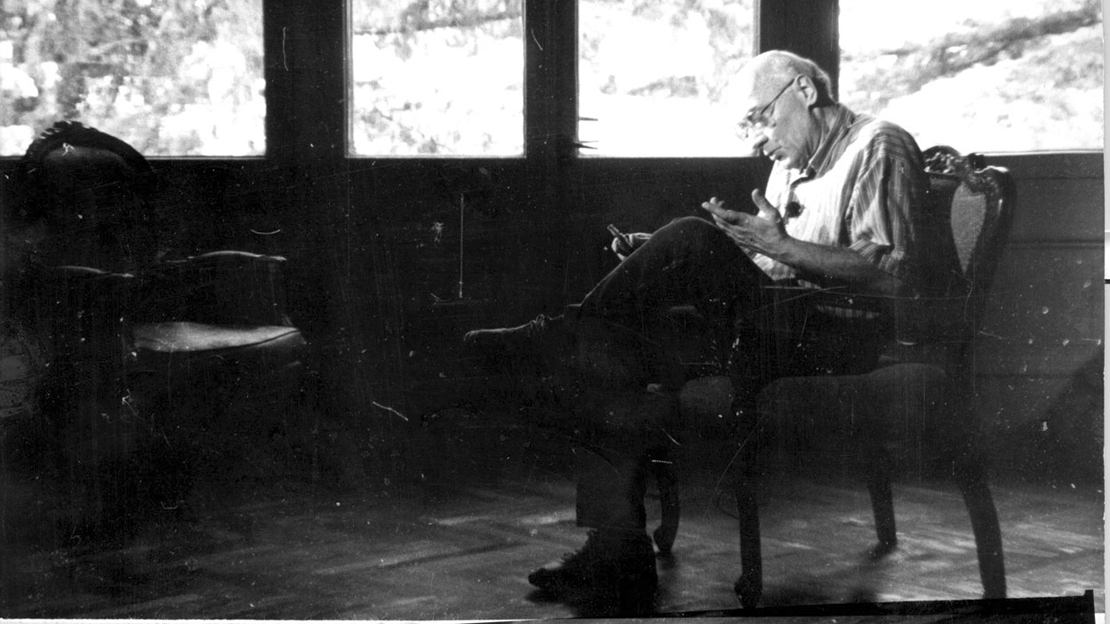В город входит смерть
Страшное пространство осажденного Ленинграда — место особого зияния исторической памяти. Почему блокадные события до сих пор окружают умолчание и забвение? Полина Барскова — о блокадной памяти, личной и коллективной.
В 2025 году Полина Барскова была признана Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны поставить читателя об этом в известность.
Хорошее место блокады?
Блокада Ленинграда — одна из самых страшных трагедий XX века, не только по количеству жертв и методу их умерщвления, но также по силе воздействия на социальные механизмы памяти. Как реакция на блокадную травму развился особый идеологический институт исторического табуирования. То, что мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, сколько именно сотен тысяч гражданского населения легло в ленинградский снег, является глубоким симптомом хаоса советских инфраструктур и последующей насильственной амнезии, которая сопутствует советской травматической истории, где блокаде принадлежат свое особое место и зияние.

Умолчание и забвение окружали и окружают блокадные события, но нельзя не заметить одну из важных культурных особенностей этого явления: с самого начала (а вернее, уже заранее, тревожным летом 1941 года) блокада породила огромное количество различных способов самоописания, самых различных видов культурной продукции. Описания эти были самыми разнообразными с точки зрения средств изображения (были задействованы музыка, визуальное и прикладное искусства, литература, театр и кинематограф), а также с точки зрения идеологически-институциональной ориентации: писали как для себя, в стол, для публикации «никогда», так и для немедленной публикации — путем радиовещания. Разницу стратегий можно проиллюстрировать впечатляющей контрастной «парой» блокадных авторов, о которых пойдет речь ниже, — Ольга Берггольц, выдававшая на-гора блокадную поэзию для ежедневной радиотрансляции, и Геннадий Гор, чьи поразительные блокадные стихи были спрятаны в стол на пятьдесят лет и никогда им при жизни не только не публиковались, но и не упоминались.
Безусловно, главным предметом блокадной репрезентации являлся сам город, произошел взрыв урбанистических изображений. Горожанин в блокаде остался с городом один на один: боль города и боль горожанина являют основную несущую блокадной поэтики, здесь ее метафора и метонимия, боль делилась и переливалась, изображения города использовались как способ метаописания метаморфоз собственной личности горожанина.
Вынесенное в заголовок словосочетание «репрезентация блокадного города как сосуществование утопий» может заставить читателя заподозрить очередное упражнение в ревизионизме. Что же мы имеем в виду, предлагая тему «блокада как (и) утопия»? Определимся сразу: блокада Ленинграда не была хорошим местом для большинства в ней оказавшихся. Для тех, кто не смог превратить эту катастрофу в метод прямой наживы и не оказался защищен от ее лишений крепостью привилегий, она была местом, крайне приближенным к тому, как западная христианская цивилизация рисует себе ад, но представления человеческие и реальность не связываются воедино напрямую: неслучайно в блокаде жадно читали перевод Михаила Лозинского дантовской «Божественной комедии» и находили голодные страдания Уголино слабым отблеском своего опыта1 . Речь здесь пойдет, однако, не об опыте, но о репрезентации — а именно об утопическом дискурсе как важном конституирующем компоненте различных блокадных репрезентаций. Аргумент моего исследования заключается в том, что блокада представлялась как утопия разными риторическими способами и с разными целями. Задачей данных заметок является анализ различных попыток представить блокадную ситуацию как утопическую: в первую очередь в литературных, но также и в кинематографических текстах. Основными протагонистами здесь выступают авторы таких, казалось бы, различных идеологических и стилистических направлений, как Ольга Берггольц, Геннадий Гор, Анатолий Даров и Григорий Козинцев.

В разговоре об изображении блокады как «хорошего места» в первую очередь следует говорить о блокадной пропаганде (теме равно увлекательной, объемной и до сих пор практически не исследованной). Эта пропаганда являла собой невероятно сложный конструкт, хотя бы по той причине, что имела две совершенно различных и даже взаимоисключающих аудитории: одна — аудитория Большой земли, другая — собственно блокадники. Большая земля «не знала» (то есть выбирала не знать) о голоде, охватившем город с начала ноября 1941 года (при том что из города шли письма, а позже из поездов с Ладоги доставали тысячи прозрачных трупов; счастливчики же, пережившие эвакуацию, рассказывали о своем опыте как умели и смели). В этой версии пропаганды «для внешнего использования» город-фронт переживал трудные времена, сражаясь, и ни в чем принципиально не отличался от других фронтов, а тело блокадного бойца — в образцовом изображении, например руководителя блокадного Союза художников и автора многочисленных плакатов В. Серова, было богатырским — то есть даже более мощным и готовым к обороне, чем нормативное тело2 . Блокада подавалась как арена тренинга, своего рода спортивный зал для развития тела и души образцового советского горожанина, безупречно доблестного стоика. Как и во всей стране, в этом местном сегменте пропаганды происходили метаморфозы в области возраста и гендера: задачей идеального бойца было преодолеть любые телесные ограничения, однако в связи с ситуацией в городе, где сражаться остались, за редкими исключениями, только дети и женщины, преодоление носило особую остроту: многочисленные пропагандистские тексты производили героические тела-модели женщин и детей, которые могли заменять и превосходить исчезнувших мужчин.
Задача внутренней пропаганды была тоньше: в «смертную пору», зимой 1941–1942 годов, никто бы не решился рассказывать самим блокадникам, лежащим в выморочных квартирах, об их «трудной, но интересной» жизни. Здесь требовались стратегии, которые оформляли бы их запредельные страдания как оправданные великой целью, направленные на завоевание лучшего будущего. Требовались особая телеология и риторика. Внутренняя пропаганда была призвана наделять смыслом ощущение безвыходности и хаоса блокадных ночей и дней. Главным, то есть самым эффективным и самым талантливым, изобретателем и символическим голосом этого направления пропаганды становится Ольга Берггольц. Хотя были и другие замечательно многоуровневые (с точки зрения самопозиционирования по оси «официальная — неофициальная поэзия») авторы: поэты Вера Инбер и Николай Тихонов, художники Александр Пахомов и Александр Никольский. Берггольц описывает блокаду как экстатический локус чудовищной и счастливой любви — растворения личности в своем городе (и шире — стране), методом страдания достигается желанное единение. О целях и приемах ее «ленинградства» пишет Лидия Гинзбург:
«Она ориентировалась среди этих страшных обломков. Со своей склонностью и способностью к внутренней жизни, к осознанию переживаемого, она концептировала все это как трагедию и как поэт захотела <…> это выразить. Но как поэт, привыкший печататься, захотела выразить печатно… Ленинградство стало для нее отпущением грехов. <…> Во всем этом много личного, полемически утверждающего себя, компенсаторного за прошлые неудачи, и потому героика взята на очень истерической ноте и на неудержимом самолюбовании, коллективном и личном»3 .
Если мы сравним «личную» и «коллективную» лирику Берггольц, обнаруживается примечательное сходство лирических интонаций:
Не знаю, что случилося со мной,
но так легко я по земле хожу,
как не ходила долго и давно.
И так мила мне вся земная твердь,
так песнь моя чиста и высока…
Не потому ль, что в город входит смерть,
а новая любовь недалека?
<…>
Одно стремление — уснуть,
к чужому городскому камню
щекой горящею прильнуть… (1941)3А
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.
<…>
Он настал, наш час, и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты — по-прежнему — одно. (1941)3Б
Утопическая лирическая модель Берггольц — это блокадное соитие, где соединяются тело города и тело горожанина, тело гражданина и тело Родины. То есть опять становится возможна коллективная и прозрачная идентичность после травмы репрессий 1930-х годов, где каждый оставался один на один со страхом, позором и подозрением. Блокадная утопия Берггольц — это возникновение прозрачного гибридного коллективного тела, причем достигается эта утопия самой страшной ценой, как это показано в поэме «Твой путь»:
И на Литейном был один источник.
Трубу прорвав, подземная вода
однажды с воплем вырвалась из почвы
и поплыла, смерзаясь в глыбы льда.
Вода плыла, гремя и коченея,
и люди к стенам жались перед нею,
но вдруг один, устав пережидать, —
наперерез пошел
по корке льда,
ожесточась пошел,
но не прорвался,
а, сбит волной,
свалился на ходу,
и вмерз в поток,
и так лежать остался
здесь,
на Литейном,
видный всем, —
во льду.4
Видная всем в ленинградском льду, Ольга Берггольц создавала свой блокадный город как тело аффекта и социальной открытости и справедливости.
Этой утопической модели в блокадной текстологии сопутствовала — при этом целиком с ней не совпадая, но иногда перекликаясь — модель искупительного возмездия, идущая еще от построений петербургского текста. Следуя логике этой традиции, блокада изображалась как заслуженное и очищающее событие.
Апокрифическое пожелание обиженной Петром царицы, на протяжении столетия переходившее из одного текста-фантазии в другой, было воспринято оказавшимися в блокаде пользователями этих текстов как наконец-то реализовавшееся.
C этой точки зрения блокада интерпретировалась как хорошее место, потому что возвращала город его репрезентативной традиции города-оксюморона, где красота и боль были неотъемлемы друг от друга.

Наиболее полно и последовательно этот взгляд прослежен в романе Анатолия Дарова «Блокада», впервые опубликованном в Мюнхене в 1946 году. Статус романа в литературной историографии блокады уникален. Это единственный известный на сегодняшний день текст подобного жанра и объема, созданный очевидцем событий без расчета на советскую публикацию, то есть без расчета на столкновение с советской официальной цензурой. Следует отметить, что блокада нашла разнообразные отображения в эмигрантской неподцензурной литературе: писатели за рубежом, сочувствующие ленинградским испытаниям, в своих текстах пытались представить, как выглядит их осажденный город, используя для реконструкции исторический материал, пережитый ими непосредственно, — будь то осада Юденича и последовавшая за ней разруха или даже наводнение 1924 года.
Однако случай Дарова уникален: перед нами попытка фикционализации непосредственного блокадного опыта, предпринятая по свежим впечатлениям. Анатолий Даров (Духонин) пережил первую блокадную зиму студентом факультета журналистики ЛГУ, был эвакуирован на Кубань весной 1942 года, где (после оккупации этих территорий немцами) оказался связан как журналист с РОА (так называемой Русской освободительной армией, также известной как Армия генерала Власова). Блокадные очерки Дарова были впервые опубликованы в 1943 году в газетах РОА «Новая мысль» и «Доброволец» (издавались в городе Николаев-на-Днепре). Эта ситуация делает рецепцию романа сегодня вдвойне проблематичной: Даров с его навязчивым желанием говорить о самых «негероических» эпизодах блокадной эпопеи подвергается подозрению, прежде всего как отказывающийся замалчивать самое страшное блокадник, а во-вторых, как «коллаборационист», один из огромного числа наших соотечественников, в конце войны «оказавшихся на Западе» (именно такой эвфемизм мы часто встречаем в биографических словарях, где эта формула стыдливо замещает подробный рассказ о попытке индивидуума пройти между жерновами тоталитарных государств).
Для нас роман представляет ценность именно как избежавший воздействия советской цензуры. На его страницах представители поколения, рожденного революцией, оказываются для читателя проводниками по самым различным кругам блокадного ада, как ситуационным (черный рынок, застенки НКВД, общежитие университета, выморочные квартиры и квартиры привилегированных граждан, Эрмитаж и кладбища), так и социальным: они общаются с представителями всевозможных страт блокадного социума. Будучи людьми слова, в своих страшных блужданиях герои Дарова руководствуются текстами Гоголя и Достоевского, Тихонова, Маяковского, Ахматовой — но прежде всего Блока. Почерпнутая у последнего идея исторического возмездия становится одним из главных центров тяжести романа.

Диалог протагониста с его умирающим университетским профессором — один из слоев текста, который мы бы могли условно назвать «блокадные «Отцы и дети»»; именно под влиянием старого петербуржца молодой ленинградец воспринимает свой гибнущий город как Петрополь — вымышленный идеальный город, в течение многих десятилетий (если мы отсчитываем с конца XVIII века) город-двойник квазиреалистического «настоящего» города:
«Уже с четырех часов дня город затихает. Будто нет в нем ни войск, ни жителей, ни жизни… Блокада — магический безвыходный круг… И вот стоит он, как заколдованный, — Петрополь… Будто и в самом деле открылись библейские хранилища и все их «мировые запасы» холода и голода обрушились на голову Осажденного. Или это начало конца мира — русский вариант Апокалипсиса? <…> За петербургский период страдаем мы. За его незавершенную совершенность…» 5 .
Блокадный Петрополь смотрит на нас с полотен и графических работ множества художников6, изображавших свой город как вернувшийся к «изначальному», внеисторическому состоянию. Художники старшего поколения, пережившие осаду города Юденичем в 1919 году и последующую разруху, в своих блокадных пейзажах повторяли те, более ранние городские черты: пустоту, мерцающее освещение, которые подчеркивали особенности классической архитектуры.
Пустой, суровый и величественный, блокадный город возмездия воспринимался очевидцами, связанными с традициями петербургской культуры, как город аутентичной петербургской ужасной красоты, определенной Александром Бенуа в начале XX века как истинное состояние и назначение Петербурга.

Другое место блокады?
Но, возможно, наиболее общее место утопического блокадного восприятия и его репрезентации — идея, что блокадный город был принципиально другим местом, во всем отличающимся от любой другой урбанистической ситуации и требовавшим от горожан постоянной реактивной ассимиляции и развития новых когнитивных навыков.
В этой связи могут быть полезны идеи Мишеля Фуко о гетеротопических и гетерохронических особенностях репрезентации и функционирования пространства7 . Город воспринимался и изображался как другой по отношению к разнообразным вариантам конструируемой «нормы»: будь то довоенный Ленинград, военные Москва или Большая земля, откуда визитеры иногда попадают в непостижимый для них город. Иногда такой точкой отсчета, нормой в воображении сравнивающего, может выступать даже дореволюционный Петербург-Петроград.
Именно как гетеротопическая проблема, пространство изоляции и опасности, блокадный Ленинград становится предметом постоянного наблюдения и обостренного внимания. Центральным приемом в изучении и репрезентации этого городского пространства становится остранение (понятие, сформулированное еще Виктором Шкловским во время первой осады города), так как город и городской опыт — одновременно такой знакомый и совершенно новый, Другой — приходится постоянно остранять, для того чтобы можно было найти способы выживания в нем.
Ученица и оппонент Шкловского, Лидия Гинзбург концентрируется в своих блокадных записках именно на этих качествах новизны, инакости блокадного пространства:
«К домам появилось новое отношение… Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город… Каждый дом был теперь защитой и угрозой. Мы познали объемы, пропорции, материалы домов. Восприятие дома стало аналитическим… Мы снова постигли незнакомую современному человеку реальность городских расстояний…»8
Записки Гинзбург предлагают нам парадокс: с одной стороны, город в блокаде — это место кризиса, приводящего блокадника к деформации личности, с другой — именно этот кризис порождает новое страшное знание — здесь Гинзбург выступает как бы в диалоге с моделью, предлагаемой Берггольц. Поистине, блокада меняет личность, в частности через измененные отношения с измененным городом, но Гинзбург никогда не выносит окончательного приговора: оправдана ли такая перемена, стоит ли другой Ленинград своей страшной обедни. В этом принципиальное отличие аналитической позиции Гинзбург от патетической позиции Берггольц, двух замечательных блокадных писательниц, проживших «смертную пору» бок о бок в стенах Радиокомитета.
По словам Фуко, одной их характеристик гетеротопии является возможность сосуществования в таком пространстве нескольких несходных между собой пространственных слоев или сегментов. Он приводит в пример функционирование театральной сцены со сменяющимися декорациями. В восприятии блокадников, с чьими свидетельствами мне приходилось работать, главным образом сосуществовали город прошлого, до- и внеблокадный, то есть город их памяти, и город настоящего, и это постоянное столкновение когнитивных процессов узнавания и неузнавания порождало разнообразные формы художественного выражения.
Образ внезапно измененного городского пространства является одним из центральных топосов в изображении блокадного Ленинграда. И в свидетельствах тех, кто наблюдал постепенные перемены уже с лета 1941-го, и у тех, кто оказывается в городе с визитом (то есть в большинстве случаев — с военной командировкой), не будучи готовым к новому образу, мы находим описания пустынных и темных улиц, заклеенных окон, а позже — руин и мертвых тел, усеявших улицы зимой. Постоянными чертами нового облика являются элементы «суровой красоты», также являющейся следствием инакости блокадного пространства: изолированный город пуст, снег не убран, отсутствует транспорт.
Очевидцы часто утверждали, что облик блокадного города невоспроизводим вне контекста, с позиции вненаходимости. В многочисленных дневниках и художественных текстах мы находим утверждения необходимости регистрировать блокадные ощущения именно в блокадном «сейчас», in situ. Возможная будущая ретроспективная оценка, как утверждают авторы, грозит утратой аутентичности изображения. Об этом говорит, например, художник Ярослав Николаев:
«Холодный город погружался во тьму. Ни одного огонька. И все же был цвет у этой темноты. Удивительно красивый город жил своей самостоятельной, таинственной жизнью, не подчиняясь людям, и цвет его был особенный, неповторимый, не такой, как сейчас. Когда теперь пишут блокадный Ленинград, не выходит именно цвет. <…> Да, странный цвет был. И больной, и сильный, и удивительно красивый. Может быть, это шло изнутри, от внутреннего состояния, другого восприятия»9.
Облик блокадного города интерпретировался как непосредственно связанный с контекстом, то есть с моментом восприятия. Именно об этом моменте и пойдет речь.
Идея Фуко о том, что гетеротопия связана с определенными слоями (кусками, сегментами) времени, очень важна для изучения репрезентации осажденного Ленинграда, где эта связь ощущалась остро и постоянно:
«Днем идем на корабли… Застывшая хмурая Нева, трубы заводов не дымят, тихо. На ближней афишной тумбе написано — большое гулянье 22 июня… Как застывшее время! Хотел содрать афишу на память, но не удалось, она примерзла… Не покидает ощущение оцепенения, омертвелости пейзажа! »10

Однако каковы были формы этой репрезентации связи пространства и времени, этого другого протекания и восприятия времени в городе? Как они регистрировались свидетелями и воспроизводились? Какие текстуальные модели здесь использовались? Фуко предлагает нам такие модели гетерохроний, как пространства, ориентированные на аккумуляцию времени (музеи и библиотеки) или, напротив, на регистрацию протекания времени (пространства празднеств), либо пространства отсутствия времени. Время сюда как бы вообще не проникает (санатории, прочие места отдыха). Идею последних разрабатывает также Марк Аже в своем эссе «(В)не-место»10А, где пространства передвижения (аэропорты, вокзалы) описываются как зоны нефункционального времени. Время здесь замирает до того момента, когда субьект попадает наконец в точку своего назначения (такой род времени, вероятно, и следует кодифицировать как одиозное потерянное время).
По сравнению с этими моделями, время блокадного города описывалось его интерпретаторами не как отсутствующее, но как травматически застывшее, замершее или буквально замерзшее. Интенсивное травматическое время блокады оказывается вместительным и гибким: оно ограничивает, но и защищает, оно держит в постоянном напряжении, но и позволяет субъекту ассоциировать себя с рифмующимися моментами прошлого, ускользать в них. Сложное, болезненное, настоящее время блокады было предметом постоянного внимания и инструментом выживания для блокадников. В других своих статьях я уже останавливалась на разных режимах восприятия блокадного времени: здесь бы я хотела сказать о корпусе текстов, где блистательно передано именно разнообразие этого восприятия, — речь идет о поэзии Геннадия Гора.
Гор прожил во многом тривиальную «советскую» творческую жизнь, при этом «для себя» (то есть в стол) и для публикации он производил разительно различающиеся тексты. Советскую карьеру его можно считать вполне удавшейся, если вести счет «удачам» от расправ 1930 годов, когда Гор был изгнан из ЛГУ за умеренно авангардистский роман «Корова». Геннадий Гор был писателем-фантастом, а также ценителем и популяризатором современной живописи — в частности искусства народов Севера. Многим современникам он казался писателем, навсегда задавленным Советской властью (хотя, в отличие от, допустим, Добычина, он творчески умер, как выяснилось, не весь). Тем сильнее было удивление читателей, столкнувшихся с относительно недавней публикацией его блокадных текстов. Перед нами в первую очередь хроника распада субъективности, как бы совпадающая с подробностями блокадного бытия, выраженная в них, но к ним не сводимая. Эти общеизвестные теперь подробности (холод, тьма, голод, распад социальных связей, безумие, каннибализм) воспринимаются уже как элементы внутреннего состояния блокадного субъекта и замечательно полно и изобретательно воспроизводятся на уровне поэтики.
С этой интенцией воссоздать на уровне поэтики распад бытия и распад сознания совпадает и то, как Гор изображает протекание блокадного времени:
Времени нет <…> время все длится, все длится, все тянется (с. 25)11
Здесь лошадь смеялась и время скакало (с. 27)
И время не тает, как ворон у глаз, как вор на окне
И время не тает навеки закрыто (с. 112)
Блокадное время Гора — это именно время, скачущее, постоянно меняющееся и постоянно дискомфортное: оно исчезает, застывает, тянется, дергается, как всякая остраненная субстанция, оно все время ощутимо и никогда не предсказуемо. Примечательно, что как и Берггольц, Гора также интересует временная позиция «счастливого потом», то есть весны и (как) победы. Вот как поэт описывает этот счастливый конец:
И солнце затеплит в квартире
На папе улыбка сгниет…
И мама расстает (с. 29)
Я жду, когда пойдет трамвай,
Придет весна, придет трава,
Нас унесут и похоронят (с. 48)
Время Гора не знает телоса, здесь нет завтра, но есть только тяжкое, сложное сейчас, в котором постоянно преломляются ощущения временного потока, его Гор регистрирует, что любопытно, немедленно по прибытии в эвакуацию в результате казавшейся ему невозможной весны 1942 года.

Чёртово колесо. Реж. Григорий Козинцев, 1926
Кода: формы утопии в аду
Одну из наиболее удивительных версий блокадной ситуации как другой, альтернативной версии истории мы находим в неопубликованном сценарии одного из лидеров советского кинематографа Григория Козинцева «В кольце». Все в этом тексте вызывает у современного читателя изумление, начиная, прежде всего, с того факта, что в конце 1941 — начале 1942 года режиссер предполагал, что город может быть сдан фашистам и что фильм о таком развитии событий может быть допущен к постановке.
Текст сценария семантически распадается на две части: в начале блокадное пространство пишется по законам реализма и соцреализма одновременно, что уже порождает оксюморонные сдвиги. Далее же перед нами еще более дикое сочетание соцреалистического и гротескного стилистических подходов. Этот сценарий является невероятным гибридом двух версий утопической репрезентации блокадного пространства, обсуждаемого здесь: блокадных утопий оптимизации и инакости.
Осажденный город начала сценария совпадает с осажденным городом записных книжек Козинцева, который, как и большинство «престижных» ленинградских деятелей культуры, отправился в эвакуацию осенью 1941 года. Однако этот урбанистический взгляд передоверен протагонистам сценария — сотруднику Смольного, бдительному товарищу Щукину, и его отважной помощнице Ирине. Вместо дневниковых нервных отрывков, пытающихся освоить распадающуюся на отдельные осколки повседневность блокадного города, Козинцев предлагает здесь безупречную, непрерывную панораму, воспроизводимую всепроникающим взглядом Щукина: «Проносятся улицы. Мчится машина Щукина. «Понимаешь, Ирина, надо будет Сталину о нем по телефону рассказать. Очень Сталин за этот дом волновался — я ему днем сказал…”«12 Взгляд протагониста козинцевского сценария — это взгляд власти, безупречно контролирующий ситуацию в городе-фронте. О несчастье и борьбе каждого дома Щукин, согласно Козинцеву, звонит Сталину напрямую. Таким образом реальное проблематичное пространство, каким его наблюдал режиссер (в записных книжках описываются и взрывы, и разрушения), оптимизируется, становится утопическим «хорошо организованным» пространством, исчезает ощущение тревоги, неизвестности.
Похожая оптимизация пространства наблюдается также в двух других блокадных кинотекстах, достигших кинопроизводства и зрителя и дошедших до нас: речь идет о картине, получившей авторство Романа Кармена, «Ленинград в борьбе» (1942)13 и «Непобедимых» (1942) соратника Козинцева по фэксовским годам Сергея Герасимова. Особенно во втором фильме, единственном дошедшем до нас художественном фильме о блокаде, снятом непосредственно во время событий, ситуация идентична с замыслом Козинцева: Герасимов использует в начале своего фильма кадры города, сделанные им в сентябре 1941 года, до эвакуации, а далее от изображения «реального» города он переходит к идеологически безупречному повествованию о создании героическими горожанами идеального для города-фронта тела: они строят танк. В то время как эвакуация вынудила Герасимова перейти к павильонной съемке и с изображения города переключиться на изображение «образцовых» горожан, Козинцева его отсутствие в городе приводит к созданию фантастического видения событий. Тем любопытнее сегодня пытаться восстановить его творческую логику.
За «безупречно отлаженными» усилиями по обороне города следует катастрофа — город сдан врагу (тут важно отметить, что нигде в сценарии город не назван прямо, то есть теоретически это может быть один из оккупированных городов, например Одесса либо Киев). Однако читатель понимает, что речь идет именно о Ленинграде, хотя бы потому, что речь ведет именно Козинцев, автор одного из наиболее ярких, сложных и последовательных ленинградских текстов в советском кино. Начиная с юношеских «Похождений Октябрины» (1924), достигая полной мощи в «Чертовом колесе» (1926) и «Шинели» (1926), двигаясь в направлении идеологического и стилистического компромисса в трилогии о Максиме, Козинцев создал неповторимый кино-Ленинград — одновременно модерный (так в центре интриги «Чертова колеса» находятся реалии нэпа) и неотделимый от своей истории.
Именно в своих знаменитых фильмах фэксовского периода Козинцев производит пространство Петербурга-Петрограда-Ленинграда как эксцентрическое (то есть буквально отклоняюшееся от центральных направлений советской современности) и гротескное. И в «Чертовом колесе», и в «Шинели» Петербург и Ленинград — это пространство соблазна и опасности, где желание всегда одерживает верх над разумом и всегда подвергается наказанию.
Во второй части своего сценария Козинцев изображает отданный врагу город как именно такое пространство. «Неведомый» город второй половины козинцевского сценария — это вернувшийся город фэксовского периода: опасный, прельстительный, смешной и отвратительный одновременно — причем призванный служить новым идеологическим целям. Козинцев изображает город смерти и город культуры, которая и жива, и мертва одновременно:
«Осенний ветер подхлестывает плохо одетую девушку, идущую по черному, пустому, завоеванному врагами городу. Она идет мимо виселиц, на которых качаются трупы. Она идет мимо мертвых неубранных тел, лежащих на тротуарах. Кружатся листья, сочится туман. <…> Молчит превращенный в мишень для пуль Пушкин, нем город. <…> Листовка, которую ветер срывает с пьедестала памятника Пушкину, мягко обволакивает ее лицо».
То, что памятник Пушкину одновременно и мертв (его расстреливают), и жив (посредством листовки он обращается к героине и ласкает ее), примечательно. В свое время Козинцев и Тынянов работали над экранизацией «главного» произведения русской литературы об оживающих памятниках, но их «Медному всаднику» так же было отказано в экранном воплощении, как и позже сценарию «В кольце».
Как и в «Чертовом колесе», где матрос с «Авроры» оказывается в объятьях плохой девочки Вали, как в «Шинели», где Башмачкина соблазняет проститутка с Невского, в блокадном сценарии важнейшую роль играет тема плотского соблазна. Однако идеальным, желанным телом, способным при этом губить фашистов, в этом городе обладает не танк, но героическая партизанка. Именно с этой темой каламбурно (что явно отсылает читателя к поэтике ФЭКСа, созданной отчасти блестящим письмом Юрия Тынянова) связано название сценария: «в кольце» в этом случае значит не только очевидное кольцо блокады, но и кольцо объятий. Действие второй части сценария происходит в борделе.
Козинцев пишет: «Солдатский публичный дом. Взвод входит почти так, как входят в баню. На стене инструкции: разговоры с дамами чисто служебные». Однако в качестве служебных разговоров издевающийся Козинцев вводит чтение Шиллера. Как и в его ранних работах, в этом гротескном пространстве постоянно соединяются верхний и нижний стилистические регистры. В сценарии подробно выписана сцена, где Ирина (это она на самом деле является партизанкой-мстительницей) губит захватчика, буквально насмерть сжимая его в объятьях, после того как он осмеливается читать ей наизусть шиллеровского «Альпийского стрелка» в качестве прелюдии к совокуплению. Акт, описанный Козинцевым, полон зловещего гротеска: звучит поэзия, совершаются сексуальный акт и акт убийства: «Кольцо рук все сжимается и сжимается… Девушки врываются в комнаты, бьют солдат, рвут в клочья, душат и топчут, разгорается пламя, горят трупы фашистов, распахиваются окна, врывается осенний ветер, раздувая пламя в гигантский костер». В макабрическом мире сценария огненная смерть сочетается с ледяной. Сценарий заканчивается сценой безумия коменданта города: «Под маршевую музыку из снежного сугроба поднимается страшный, замерзший немецкий солдат».
Возвращаясь к упомянутому в начале статьи частому и такому понятному сравнению блокадниками их ситуации с адской, именно в нереализованном и до сих пор не известном сценарии автора, оказавшегося вне блокады, мы видим наиболее полную реализацию этой идеи.

Фантазматический город сценария — это адский город, город греха и наказания за грех, пространство эротизированного зла, насилия и издевательской иронии. Примечательно, что такая модель пространства не была изобретена Козинцевым в 1941 году: он видел и изображал таким Петербург-Ленинград с самого начала своего творчества. Городской кошмар «В кольце» наследует по прямой образам и смыслам отвратительного и неотразимого дома-руины в «Чертовом колесе», причем, как и раньше, такое пространство подлежит наказанию и уничтожению. Заметим, что в рамках сценария это другое пространство оккупированного города, где сосуществуют смерть и желание, Шиллер и Пушкин, связано с идеализированным пространством города осажденного, но находящегося под контролем товарищей из Смольного.
Идеологическое стремление изображать блокадный город как образцовую арену для создания образцового горожанина и гражданина сосуществовало с творческим импульсом регистрировать постоянные изменения в городе. Блокада Ленинграда оказалась для очевидцев и описателей когнитивной и творческой зоной перемены и проявления смыслов. Именно их многообразие и позволяет нам говорить об утопическом дискурсе как неотъемлемой части блокадной репрезентации.
Примечания:
1 О блокадном чтении см. Барскова П. Вес книги: стратегии чтения в блокадном Ленинграде // Неприкосновенный запас. 2009. № 6 (68)
Назад к тексту
2 О различных способах представления телесности в блокадной пропаганде см. Barskova P. The Corpse, the Corpulent, and the Other: A Study in the Tropology of Siege Body Representation // Ab Imperio. 2009. N 1. Назад к тексту
3 Гинзбург Л. Проходящие характеры. М., 2011. С. 111–112. Назад к тексту
3а
3А Берггольц О. Избранные произведения. Л., 1983. С. 208. Назад к тексту
3 б
3Б Там же. С. 195. Назад к тексту
4 Там же. С. 282. Назад к тексту
5 Даров А. Блокада. Мюнхен, 1946. С. 282. Назад к тексту
6 Наиболее ценный источник по блокадному пейзажу: Блокадный дневник. Живопись и графика блокадного времени. СПб., 2005. Назад к тексту
7 Foucault M. Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias // Architecture Mouvement Continuite?. 1984. Oct. Назад к тексту
8 Гинзбург Л. Указ. соч. С. 325. Назад к тексту
9 Николаев Я. Подвиг века. Л., 1969. С. 144. Назад к тексту
10 Вишневский В. Ленинград: дневники военных лет. Книга первая. М., 2002. С. 68. Назад к тексту
10А Aug? M. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London; N. Y.: Verso, 1995. Назад к тексту
11 Гор Г. Стихотворения (1942–1944). М., 2012. Назад к тексту
12 Здесь и далее сценарий цитируется по неразобранному фонду Г. Козинцева в ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Назад к тексту
13 О судьбе и авторах фильма «Ленинграда в борьбе» см. Барскова П. Август, которого не было, и механизм календарной травмы: размышления о блокадных хронологиях // Новое литературное обозрение. 2012. № 116. Назад к тексту