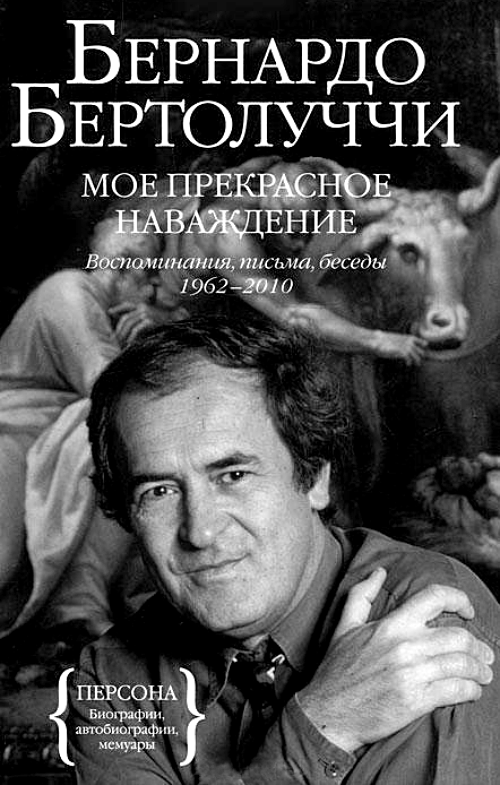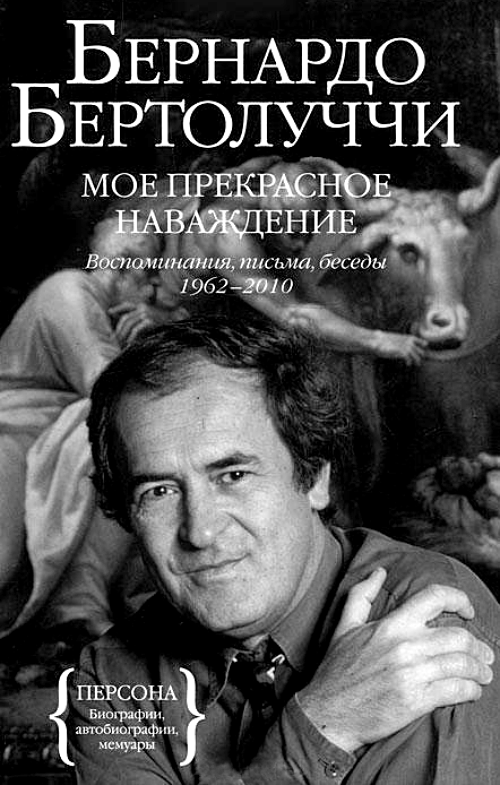
«Мне казалось, я в сраном фильме Бертолуччи», — в проброс говорится одним тридцатилетним режиссёром в новелле из популярного альманаха. Услышав сию мерзость, мэтр бы, наверное, перевернулся в своём кресле-качалке, расплескав бокал с Chianti. И есть от чего. Обозвать тосканскую лужайку «сраной» может себе позволить только твердолобый разночинец из Детройта, ни бельмеса не смыслящий в пасторальных увеселениях. Впрочем, на подмогу ему придут полки рассерженных молодых людей, которых при словах «поэзия должна быть глуповата» выворачивает наизнанку. Поехавший на старости лет миляга Бертолуччи, панорамирующий лобок Евы Грин, «глуповат», а потому обречён на бойкот. Молодой марксист прописал бы маэстро кровопускание, постельный режим и диету, самонадеянно позабыв о том, что Бертолуччи — один из последних, кто ещё неровно дышит ко всем их революционным благоглупостям. Пусть не по адресу, но дышит. В отличие от большинства он способен честно признаться в том, что за сонную улыбку Лив Тайлер продаст Маркса родного. Как ни крути, а именно на этой нелепости всегда держалась его зачем-то очень грамотно построенная вселенная: кто поспорит, что тот самый акт кинематографичнее даже бычьего бюста Муссолини?
Бернардо Бертолуччи крупно повезло с биографией. У него есть всё, что входит в джентльменский набор признанного классика XX века и составляет реноме крупного художника в наши дни: модернистская люлька, у которой стояли патроны-волхвы вроде Пазолини и Годара, папа — марксизм и мама — психоанализ, лиризм с ощутимой левацкой прожилкой и антифашистское шило. Всё на своих местах — от эдипова комплекса до буддизма — смешано в удобоваримых пропорциях. Трудно найти более конформную фигуру в современном кинематографе, вынужденную вещать от имени вечности после смерти последнего из «священных монстров» Антониони. Бертолуччи полагается презирать за буржуазность и детскую болезнь левизны — и, что скрывать, вождём его не назовёшь; хвалить — за «глубокий анализ человеческой природы» и её проказ, составивших фундамент политических девиаций прошлого столетия (фашизм начинается с ненависти к кошачьим). Но на такие комплименты горазды либеральные зрители. Серьёзных борцов за правду оскорбит то, что их главному врагу — фашизму — состряпали такую примитивную теорию происхождения. Как известно, наша репутация во многом зависит от серьёзности нашего оппонента. Но Бертолуччи, наверное, никогда не был силён по этой части. С ним произошло то, что и должно произойти с любым остепенившимся бунтовщиком, спрятавшим на антресоли намоленный портрет Мао: получив орден за гуманизм, он с неизбежностью перекочевал в лагерь конформистов, которых левые не любят за их настоящее, а правые — просто за их бесхребетность. Хотя Бертолуччи никогда и не рисковали делать знаменоносцем: кроме зыбкого идеала искусства, которое всюду и без масла пролезет, ему нечего было поставить на службу движению. Теперь, когда высказываться на тему самых жирных трагедий новеченто стало дурным тоном, а большие формы отошли по ведомству фашистов (хохма Триера на последних Каннах), эпический замах этого «незаконнорожденного неореалиста» кажется последним приветом из могилы. Растерянная Ада бредёт в объятия блядуна де Ниро, которому играть франтоватого конюха, а не барчука; театрально заламывает руки щуплый профессор Квадри, падающий к ногам ощерившихся чёрнорубашечников; впитавший морфий с молоком матери Клеречи отмечает падение партии беспардонным половым актом в сени Колизея. В сущности, как хорошо, что все они умерли — добрые или злые, богатые или бедные — эти накокаиненные куколки модернизма.

Конформист. Реж. Бернардо Бертолуччи, 1970
Вышедшая в издательстве «КоЛибри» книга воспоминаний, писем и интервью Бертолуччи «Моё прекрасное наваждение» проходит под рубрикой «Юбилейное». Опубликованные в ней эссе режиссёра, собранные кинокритиками Фабио Франчоне и Пьеро Спила по сусекам итальянской прессы, часто занимают по полстранички. Собрание коротких оммажей Бергману, Ренуару, Кубрику, Офюльсу, Филиппу Гаррелю и прочим может заинтересовать разве что энтузиастов или редакторов, которые легко найдут в этой книге материал для очередного «ста лет со дня рождения». В остальном мы узнаём о Бертолуччи лишь то, что и так всегда знали о нём, но ленились спросить: маменькин и папенькин сынок, босоногий баловень окрестных селянок; поэт и пармский «француз», обданный «последним дыханием» новой волны; женолюб и мемуарист; попутчик революций и клиент психоаналитика. Сейчас Бертолуччи, как и всякий порядочный человек, поругивает Берлускони и сетует на то, что «молодые люди голосуют за правоцентристов и забыли слово «культура»», призывает правительство составить программу поддержки дебютов, пишет бумажки и болеет сердцем за молодёжь. Судя по всему, при КПИ и Берлингуэре ему действительно жилось слаще:
В моей жизни огромная пустота образовалась в результате кризиса коммунизма. В какой-то момент я почувствовал, что у меня украдена возможность мечтать об определённой утопии <…> Кино — это только первый повод преодолеть отчуждение, из-за которого мы все ощущаем себя мертвецами.
Где та весна, когда девятнадцатилетний балбес впервые рассекал по Парижу на фиате-чинквеченто? …
О ранних фильмах Бертолуччи — «Костлявая кума», «Перед революцией», «Партнёр», «Стратегия паука» — помнит, наверное, только «Википедия». Сегодня его кино предлагает зрителю тот род ностальгии, что фатально связан с крушением определённых исторических иллюзий. Кому захочется учиться на старых ошибках и ворошить контекст — вроде вызвавшего в 1968 году стихотворения Пазолини «Компартия — молодёжи!»? (Всем митингующим рекомендуется к прочтению). Кто в здравом уме всерьёз воспримет пафос «Последнего танго в Париже», чьё название годится разве для шоколадных конфет? Сегодня «Танго» читается, прежде всего, как порнографический этюд на тему некоммуникабельности; возвышенную возню у гроба жены и бегá с кинокамерой оставляем за скобками. Когда на экране в очередной раз ощипывают какую-то прогрессивную курочку, самому хочется взяться за пистолет. От «Последнего императора» в памяти остаются только пышные маньчжурские декорации, большая часть которых была снята в павильонах Римского экспериментального киноцентра, и ощущение пустого, разворованного дворца. Покаяние в чужих грехах, интеллигентские охи и ахи по поводу того, как «мы могли допустить; как случилось то, что случилось», сегодня не в тренде, а режиссёр-белоручка — персонаж никак не первого плана. Надо отдать ему должное, приговор он выносит себе сам:
По-моему, единственный способ стать марксистом — это вобрать в себя динамизм, необычайную жизненную энергию пролетариата, народа — единственно подлинно революционной силы в мире. Я пристраиваюсь где-то в конце этого движения и позволяю себя тянуть, не давая вытолкнуть вперед. Я двойственен, потому что я буржуа, и я снимаю фильмы, чтобы избавиться от опасностей, страхов, боязни проявить слабость или струсить. Я родом из буржуазии, а она страшно коварна: всё заранее предвидела и теперь принимает с распростёртыми объятиями и реализм, и коммунизм. Очевидно, этот либерализм — маска, за которой прячется её лицемерие <…> Пусть люди говорят о моей «идеологической болезни», о моём «китайском бреде» — но только не о том, что я прославляю палачей.

Двадцатый век. Реж. Бернардо Бертолуччи, 1976
Именитым напарникам Бертолуччи выпал джекпот: люби́м севший на нож яростный Пазолини, в фаворе Ардженто. Годар продолжает петь в свою социалистическую дуду и, кажется, не собирается помирать. В компании этих парней Бертолуччи кажется «девочкой чужой»: слишком нормальный, слишком из приличной семьи («хорошая порода не лжёт» — писал Пазолини). Эстетизм не толкал его на радикальные безумства — ни сильно влево, ни сильно вправо, но наоборот приучал к счастливому постоянству позиции. Cердце Бертолуччи всегда билось слева, но ровно, без сбоев в кардиограмме. Приоритет искусства над политикой для него неопровержим. Но не в этом, как говорится, корень зла его богатого на красоты, но вялого кинематографа, с точки зрения способности преобразовать разнообразные и яркие картины жизни в мысль — либо расторможенного, либо плакатно прямолинейного. Ну, кого ещё так ловко угораздит сделать слепым фашистского лидера — «Вергилия» Конформиста? В многоголосице лозунгов, в лихорадочной смене идеологических персонажей, умирающих своей и не своей смертью, в «Двадцатом веке», этой, по словам режиссёра, «буржуазной и одновременно языческой мелодраме», не вырабатывалось никакой новой правды, кроме правды земли и крови. Оглушённый на всю жизнь убийством свиньи и снявший об этом первую ленту Бертолуччи убивал эту свинью в каждом своём фильме. Иногда, как в «Ускользающей красоте», — подолгу.
Странно, но с тех пор, как Бертолуччи решил, что не будет насиловать зрителя, якобы опровергая общее место «удовольствие — это для правых», смотреть его стало совсем невмоготу. Как-то после одного показа «Двадцатого века» он восхищался тем, что его Ольмо и Альфредо досталось от зрителей ничуть не меньше, чем накануне гуманоидам из «Планет обезьян». Что это — моцартианская мудрость или щедрая беззлобность Italianita, вынесенная из соседней траттории? Когда левак в Бертолуччи ушёл на пенсию, он превратился в добряка — того, который всегда воспевал уют на фоне исторического перелома (кто отказался бы провести денёк-другой в квартирке Тео и Изабель?) Хлопотливое, проникнутое заботой о социально-культурном оформлении жизни, прихотливое итальянское начало взяло верх над годаровской муштрой. Ещё Герцен сказал, что любой итальянец — художник по натуре и с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного, в то время как француз — природный солдат, который любит строй, команду, мундир, любит задать страху. И, правда, — что такое левый французский междусобойчик шестидесятых как не казарма, а любовь Бертолуччи к Годару — как не безответное чувство? «Поэзия — это петиция!» — со священным ужасом выпаливает Бертолуччи в «Мечтателях» и отводит душу на фотокарточке Марлен Дитрих. Перед лицом цивилизации с её кафе-шантанами, политическими сектами, теориями заговоров и спектаклей Бертолуччи, как накуролесивший школьник, встаёт руки по швам: он и побаивается своей наставницы, и фонтанирует от её безжалостности. Он не может, да и не хочет мериться с ней силой. Ему, гордящемуся своим крестьянским происхождением, больше по душе те игры, в которых понятно, кто сверху. Искусство для него не маслобойная машина (ведь эта та игрушка, которую он утаил от своей суровой партнёрши), а, скорее, пинцет для собирания пыльцы: не производит смыслы, но под шумок опыляет то, что ему вздумается. В одном из своих самых откровенных интервью («Па-де-де на тему «Двадцатого века»: крестьяне, мечта, социализм») Бертолуччи вдруг раскрывается как либерально мыслящий консерватор, готовый в любой момент перейти от машины обратно к сохе. (Для того, чтобы, наконец, показать себя умным человеком, ему требуется собеседница-феминистка). Что греха таить, победы в сексе, еде, выпивке и кулачном бою всегда были ему интереснее, чем рекорды в словесных баталиях, до которых так охочи французы. Это заметно хотя бы по тому, с каким трепетом он рассказывает о сутенёрах, которых ему приходилось пасти во время съёмок пазолиниевского «Аккатоне»: «Их ночи были беспокойны, и они делились со мной тревогой, которая овладевала ими ближе к рассвету: если девочки придут домой усталые и не найдут готового дымящегося соуса для макарон, они завтра способны на меня заявить за злоупотребления». Фундаментальная итальянская трагедия не обходится без этого соуса и потому всегда имеет отчётливый оперный привкус («Двадцатый век» начинается со слов «Верди умер!»). Несётся по запруженным улицам певучее, как на рынке в воскресный день, Rivoluzione fascista, пляшут четыре свадьбы и одни похороны… Если допустить, что в своей последней картине Бертолуччи довёл оперный принцип до конца и герои там на самом деле не разговаривают, а чирикают, справиться с её непосильной глупостью будет значительно проще. Другое дело, что и зритель тогда окажется ничем не лучше чирикающего птенчика — что вообще-то недалеко от правды. Бертолуччи как будто хочет сказать, что всем нам ещё только предстоит научиться заново разговаривать — не перепевками «Нью-Йорк геральд трибюн, Нью-Йорк геральд трибюн», а другим, пусть и корявым языком. Соглашаться с ним или нет — личное дело каждого. Европейский мастер-класс, ноль нравоучений.

Мечтатели. Реж. Бернардо Бертолуччи, 2003
Сам он меж тем заработал себе право заниматься тем, чем хочет; список guilty pleasures Бертолуччи — самое нравоучительное, что есть в этой книге для начинающего киномана. Он пересматривает «Автокатастрофу» Кроненберга (тот ещё крестьянин!) и диснеевскую «Белоснежку», в ужасе бегущую сквозь тёмный и страшный лес от деревьев, тянущих к ней свои костлявые руки. Вероятно, эта любимая Бертолуччи сцена многое говорит ему как закоренелому фрейдисту… Беги, Белоснежка!