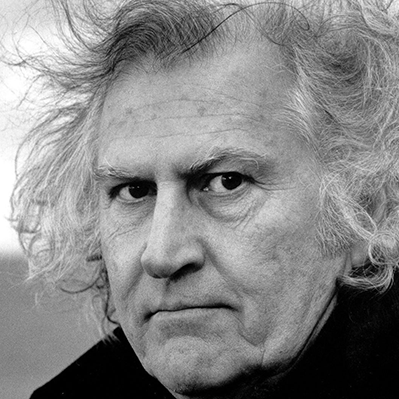По направлению к «третьему кино»
Еще недавно попытка создать в колонизованной, неоколонизованной или даже империалистической стране фильм о деколонизации, который бы отворачивался от Системы или активно ей противостоял, казалась приключением, достойным Дон Кихота. До недавних пор слово «фильм» служило синонимом словам «зрелище» и «развлечение»; одним словом, это был очередной потребительский товар. В лучшем случае фильмы успешно демонстрировали разложение буржуазных ценностей и сообщали о существовании социальной несправедливости. Как правило, в фильмах рассматривалось следствие, а не причина; кинематограф был полон мистификации и антиисторизма. Это был кинематограф прибавочной стоимости. В таких условиях фильмы — самое ценное средство коммуникации нашего времени — были обречены служить лишь идеологическим и экономическим интересам владельцев киноиндустрии и хозяев мирового кинорынка, большинство из которых жили в США.
Возможно ли было преодолеть такую ситуацию? Как начать снимать освободительные фильмы, если стоимость съемок доходит до нескольких тысяч долларов, а каналы показа и дистрибьюции — в руках врага? Как можно гарантировать непрерывность работы? Как добраться до публики? Как справиться с репрессиями и цензурой Системы? Такие вопросы — а их можно задать великое множество — приводили и до сих пор приводят многих к скептицизму и следующим рассуждениям: «революционный кинематограф не может существовать до революции», «революционные фильмы возможны только в освобожденных странах», «без поддержки революционных политических сил революционные кинематограф и искусство невозможны». Эта ошибка связана с принятием буржуазного подхода к реальности и фильмам. Модели производства, дистрибьюции и показа оставались голливудскими именно потому, что в плане идеологии и политики фильмы еще не превратились в механизм четкой дифференциации между буржуазной идеологией и политикой. Реформистский подход, продемонстрированный в диалоге с противником, в сосуществовании и в сведении внутригосударственных противоречий к противоречиям между двумя якобы уникальным блоками — СССР и США, — был и остается способен производить лишь кино в рамках Системы. В лучшем случае это будет «прогрессивное крыло» кинематографа Истеблишмента. В конечном итоге такое кино для качественных изменений обречено ждать, пока мировой конфликт мирно разрешится в пользу социализма. Самые смелые попытки режиссеров, которые стремились взять штурмом крепость официального кинематографа, закончились, по красноречивому выражению Жан-Люка Годара, тем, что сами режиссеры оказались «заперты в крепости».
Но недавно поднятые вопросы казались многообещающими. Они родились из новой исторической ситуации, в которую режиссеры, как это часто бывает с образованными слоями нашего общества, окунулись довольно поздно: через десять лет после кубинской революции, вьетнамского конфликта и возникновения всемирного освободительного движения, сердце которого находится в странах третьего мира. Присутствие на мировой революционной арене народных масс стало важным фактором, без которого невозможно было бы поднять вышеперечисленные вопросы. Новая историческая ситуация и новый человек, возникший в процессе борьбы с империализмом, требовали нового, революционного подхода со стороны кинематографистов всего мира. Вопрос, возможно ли повстанческое кино до революции, в небольших группах единомышленников начал замещаться вопросом о том, необходимо ли такое кино для того, чтобы приблизить революцию. Положительный ответ стал отправной точкой для первых попыток как-то направить процесс поиска возможностей во многих странах. Примеры: Newsreel, американская левая киногруппа, cinegiornali итальянского студенческого движения, фильмы, созданные Etats généraux du cinéma français, фильмы британского и японского студенческих движений, — все это продолжает и расширяет труды Йорисов Ивенсов и Крисов Маркеров. Достаточно взглянуть на фильмы кубинца Сантьяго Альвареса или на кинематограф, который различные режиссеры в поисках революционного латиноамериканского кино создавали, как сказал бы Боливар, на «всеобщей родине».
Серьезный спор о роли интеллектуалов и художников в освобождении сейчас обогащает перспективы интеллектуального труда по всему миру. Однако этот спор мечется между двумя полюсами: на одном предлагают свести весь объем интеллектуального труда к чисто политической или военно-политической функции, закрывая перспективу любой артистической деятельности, потому что такая деятельность непременно будет поглощена Системой; на другом полюсе настаивают на внутренней двойственности интеллектуала: с одной стороны, «произведение искусства» и «привилегия красоты» — искусство и красота, которые не обязательно связаны с нуждами революционного политического процесса, — а с другой стороны, политические обязательства, которые заключаются в подписании определенных антиимпериалистических манифестов. На практике такая точка зрения означает разделение искусства и политики.
Эта полярность зиждется на двух умолчаниях. Первое: концепция культуры, науки, искусства и кино как однозначных, универсальных терминов; и второе: недостаточно ясное понимание того факта, что революция начинается не с отнятия политической власти у империализма и буржуазии; она зарождается в тот момент, когда массы чувствуют необходимость перемен, а их интеллектуальный авангард начинает изучать эти перемены и претворять их в жизнь с помощью действий на различных фронтах.
Культура, искусство, наука и кино всегда откликаются на конфликт классовых интересов. В неоколониальной ситуации соревнуются две концепции культуры, искусства, науки и кино: правительственная и народная. И такое положение дел сохранится, пока народная концепция не отождествится с правительственной, пока статус колонии или полуколонии держится силовыми методами. Более того, двойственность исчезнет и превратится в единую, универсальную категорию, только когда самые лучшие человеческие ценности вернутся из опалы и станут главенствовать, когда освобождение человека станет всеобъемлющим. А пока существуют наша культура и их культура, наш кинематограф и их кинематограф. Так как наша культура тяготеет к эмансипации, она не исчезнет, пока эмансипация не станет реальностью. Культура разрушения будет нести в себе искусство, науку и кинематограф разрушения.
В целом недостаточное осознание этой двойственности заставляет интеллектуала обращаться с художественным и научным творчеством так, будто оно «универсально задумано» классами, которые управляют миром, и в лучшем случае вносить в это творчество некоторые поправки. Мы недостаточно глубоко развили революционный театр, архитектуру, медицину, психологию и кино; мы не создали собственную культуру для себя. Интеллектуал воспринимает каждую из этих форм выражения как единицу, которую нужно исправить в рамках самого выражения, а не извне, с помощью новых методов и моделей.
Астронавт или десантник мобилизует все научные ресурсы империализма. Психологи, врачи, политики, социологи, математики и даже художники бросаются на изучение всего, что служит, с точки зрения разных специальностей, подготовке орбитального полета или массового убийства вьетнамцев; в итоге все эти специальности в равной степени удовлетворяют потребности империализма. В Буэнос-Айресе армия искореняет villas miseria (городские трущобы), а на их место ставит «стратегические деревни» с планировкой, которая облегчает военное вмешательство в нужное время. Революционным организациям не хватает специализированных фронтов не только в их медицине, инженерии, искусстве и психологии, но и в наших собственных революционных инженерии, психологии, искусстве и кинематографе. Чтобы быть эффективными, все эти области должны признать приоритет каждого этапа: как этапов, нужных для борьбы за власть, так и этапов, которые требуются для уже победившей революции. Примеры: создать политическую осведомленность в необходимости военно-политической борьбы за власть; разработать медицинские средства для нужд боевых действий в сельских и городских зонах; скоординировать энергию, чтобы добиться урожая сахарного тростника в 10 миллионов тонн, как на Кубе; или разработать архитектуру и городскую планировку, способную выдержать массированные авианалеты, которые империализм может обрушить в любое время. Укрепление каждой конкретной специализации и области подчинено коллективным приоритетам, заполняет пустоты, созданные борьбой за освобождение, и способно самым эффективным образом очертить роль интеллектуалов в наше время. Очевидно, что революционная культура и осведомленность на массовом уровне достижимы только после захвата политической власти, но использование научного и артистического арсенала наряду с военно-политическим не в меньшей степени готовит почву для революции и облегчает решение проблем, которые возникнут после захвата власти.
Интеллектуал посредством своей деятельности должен найти поле, где он сможет работать наиболее эффективно. Как только фронт работ определен, следующая задача — выяснить, где на этом фронте стоит вражеский оплот; где и как разместить свои силы. Именно в ходе такого жесткого и грандиозного ежедневного поиска может возникнуть культура революции — базис, который начиная с этого самого момента будет воспитывать нового человека, подобного Че, — не абстракцию, не «освобождение людей», а другого человека, который способен восстать из пепла старого, отчужденного человека, которым мы все являемся и которого этот новый человек уничтожит, поддерживая огонь сегодня.
Антиимпериалистическая борьба народов третьего мира и подобных им граждан империалистических стран сегодня составляет ось мировой революции. «Третье кино», по нашему мнению, — это кинематограф, который видит в этой борьбе самый гигантский культурный, научный и художественный манифест нашего времени, огромную возможность создать освобожденного индивида, начав с каждого народа, — одним словом, деколонизацию культуры.
Культура, и в том числе кинематограф, неоколонизованной страны — это попросту выражение общей зависимости, которая создает модели и ценности, порожденные нуждами империалистической экспансии.
Чтобы закрепиться, неоколониализм должен убедить народ зависимой страны в его собственной неполноценности. Рано или поздно неполноценный человек признает Человека с большой буквы; это признание говорит о том, что защитная линия прорвана. Если хочешь быть человеком, — говорит угнетатель, — ты должен быть как я, говорить на моем языке, отрицать собственное существование, превратить себя в меня. Уже в XVII веке иезуитские миссионеры говорили о способностях [южноамериканских] дикарей к копированию европейских произведений искусства. Копиист, переводчик устный и письменный; в лучшем случае зритель — неоколонизованного интеллектуала всегда будут поощрять на отказ от собственных творческих возможностей. Помехи, переселение, эскапизм, культурный космополитизм, художественная имитация, метафизическое истощение, предательство своей страны — все это находит плодородную почву.
Культура становится двуязычной.
…не вследствие использования двух языков, а благодаря конъюнктуре двух культурных моделей мышления. Одна — национальная, народная; другая — отчуждающая, принадлежащая классам, которые подчиняются внешним силам. Восхищение, которое высшие классы выражают по отношению к США или Европе, — это максимальная форма выражения подчиненности. После колонизации высших классов культура империализма косвенно внедряет в массы знание, которое невозможно контролировать.
Неоколонизованный народ — не хозяин земли, по которой ходит, и не хозяин идей, которые его окружают. Понимание национальных реалий предполагает вхождение в паутину лжи и замешательства, порожденных зависимостью. Интеллектуал вынужден воздерживаться от спонтанных мыслей; если же он начинает думать, обычно он рискует делать это по-французски и по-английски, а не на языке своей собственной культуры, которая, как и процесс национального и социального освобождения, остается в зародыше. Каждый факт, каждая идея, которая витает вокруг нас, — часть системы миражей, которую очень сложно разобрать на части.
Буржуазия, а также интеллектуальная элита портовых городов вроде Буэнос-Айреса с самого начала этой истории являлись связующим звеном проникновения неоколониализма. Европейский либерализм породил в Аргентине такие лозунги, как «Цивилизация или варварство». За ними скрывалась попытка навязать цивилизацию, которая соответствовала бы нуждам империалистической экспансии, и желание уничтожить сопротивление народных масс, которые впоследствии назывались в нашей стране «мусором», «горсткой негров» и «зоологическими отходами», а в Боливии — «немытой толпой». Так идеологи полустран, бывшие мастера «игры большими словами с безжалостным, подробным и грубым универсализмом» служили представителями тех последователей Дизраэли, которые умно провозглашали: «Я предпочитаю права англичанина правам человека».
Средние слои были и остаются лучшими реципиентами культурного неоколониализма. Их амбивалентное классовое состояние, их буферное положение на границе общественных полюсов и широкие возможности для доступа к цивилизации дают империализму базу для социальной поддержки, которая стала существенной в некоторых странах Латинской Америки.
В открытой колониальной ситуации культурная интрузия идет вслед за армией захватчиков, а на некоторых стадиях это проникновение оказывается первостепенным.
Оно нужно, чтобы институционализировать зависимость и придать ей вид нормы. Главная цель культурной деформации — не позволить людям осознать свою неоколониальную позицию и попытаться ее изменить. Так, колонизация посредством образования становится эффективной заменой колониальной полиции.
СМИ обычно довершают разрушение национального самосознания и коллективной идентичности на пути к просвещению. Это разрушение начинается, как только ребенок получает доступ к СМИ, образованию и культуре правящих классов. В Аргентине 26 телеканалов, миллион телевизоров, более пятидесяти радиостанций, сотни газет и журналов, а также тысячи записей, фильмов и так далее — все они способствуют аккультурации вкуса и сознания к процессу неоколониального образования, которое начинается в университете. «СМИ гораздо эффективнее для неоколониализма, чем напалм. Все настоящее, правдивое и рациональное находится на границе закона, как и сами люди. Насилие, преступность и разрушение становятся Миром, Порядком и Нормой». Правда приравнивается к подрывной деятельности. Любая форма выражения или коммуникации, которая пытается показать национальную реальность, — это диверсия.
Культурная интрузия, образовательная колонизация и СМИ сейчас объединяют усилия в отчаянном стремлении поглотить, нейтрализовать и уничтожить любые приметы попыток деколонизации. Неоколониализм старается по-настоящему выхолостить и переварить культурные формы, которые возникают вне его собственных целей. Он пытается убрать из них именно ту составляющую, которая делает их эффективными и опасными; проще говоря, он стремится их деполитизировать. Или, иначе говоря, отделить явления культуры от борьбы за государственную независимость.
Такие идеи, как «красота сама по себе революционна» и «весь новый кинематограф революционен», — это идеалистические чаяния, которые не касаются неоколониальных ситуаций, поскольку продолжают видеть в кинематографе, искусстве и красоте универсальные абстракции, а не неотъемлемую часть национальных процессов деколонизации.
Любая, неважно, насколько опасная, попытка, которая не служит мобилизации, возбуждению и политизации народных слоев, вооружению их разума и чувств — в общем, так или иначе, делу борьбы, — воспринимается равнодушно или даже с удовольствием. Дерзость, нонконформизм, бунтарство на ровном месте и протесты — попросту очередные товары на капиталистическом рынке; это продукты потребления. Особенно это верно в ситуации, когда буржуазии нужна ежедневная доза шока и волнующие элементы контролируемого насилия — то есть насилия, которое Система поглощает и превращает в обычную резкость. Примерами могут служить социалистически окрашенные картины и скульптуры, которые жадно скупает новая буржуазия для украшения своих квартир и особняков; пьесы, полные гнева и авангардизма, которым шумно аплодируют правящие классы; литература «прогрессивных» писателей, которых волнуют семантика и человек на границе пространства и времени, — такая литература придает издательствам и журналам Системы ауру демократической широты мышления; и кинематограф «вызова», «спора», который продвигают дистрибьюторы-монополисты и показывают крупные коммерческие киноцентры.
В реальности область разрешенного протеста в Системе намного шире, чем готова признать сама Система. Это дает творцам иллюзию того, что они, выходя за некоторые узкие границы, работают «против Системы»; они не понимают, что Система способна поглотить даже антисистемное искусство и использовать его в качестве тормоза или необходимой самокоррекции.
При недостатке осознания того, как использовать наши инструменты для настоящего освобождения — иными словами, при нехватке политизации, — все эти «прогрессивные» альтернативы образуют самое левое крыло Системы и улучшают ее культурную продукцию. Они обречены вести слева свою лучшую работу, которую сегодня готовы принять справа, — что лишь поддерживает выживание правых. «Верните слова, действия и образы на места, где они могут играть революционную роль, где они станут полезными, где они превратятся в орудия борьбы». Сделайте эту работу оригинальным фактом освободительного процесса, заставьте ее служить самой жизни, а не искусству; растворите эстетику в общественной жизни: только так, по словам Фанона, деколонизация станет возможна, а культура, кинематограф и красота — по крайней мере то, что для нас важнее всего, — станут нашей культурой, нашими фильмами, нашим чувством прекрасного. Исторические перспективы Латинской Америки и большинства стран под империалистическим гнетом направлены не на уменьшение притеснений, а на их увеличение. Мы движемся в сторону не буржуазно-демократических режимов, а диктаторских форм правления. Борьба за демократические свободы, вместо того чтобы вынуждать Систему идти на уступки, ввиду узости пространства для маневра приводит только к урезанию уступок.
Буржуазно-демократический фасад некоторое время назад обвалился. Этот цикл начался в прошлом веке в Латинской Америке с первых попыток самостоятельного укрепления национальной буржуазии, отделенной от метрополии (примеры: федерализм Росаса в Аргентине, режимы Лопеса и Франсии в Парагвае, а также режимы Бенхидо и Бальмаседы в Чили), с традициями, которые остаются живы и в нашем веке: национал-буржуазные, национально-популистские и буржуазно-демократические попытки делали Карденас, Иригойен, Айя де ля Торре, Варгас, Агирре Серда, Перон и Арбенс. Но в том, что касается перспектив революции, цикл определенно завершен. Траектории, позволяющие углубить каждую из этих исторических попыток, сегодня проходят через слои, которые понимают ситуацию на континенте как военную и которые готовятся под гнетом обстоятельств превратить этот регион во Вьетнам следующего десятилетия. В этой войне национальное освобождение может преуспеть только если оно одновременно будет подаваться как социальное освобождение. Социализм — единственная надежная перспектива любого процесса национального освобождения.
Сейчас в Латинской Америке нет места ни пассивности, ни невинности. Обязательства интеллектуала изменяются рисками не в меньшей степени, чем словами и идеями; главное — чтó он делает для дела освобождения. Рабочий, который бастует, рискуя потерять работу или даже жизнь; студент, который рискует своей карьерой; повстанец, который молчит под пытками. Каждый и каждая своими действиями обязывают нас на более важные поступки, нежели туманные жесты солидарности.
В ситуации, когда «государство закона» замещается «государством фактов», интеллектуал, который является очередным рабочим, должен все больше радикализироваться, чтобы не отказаться от своей сущности, и делать то, что от него ждут. Бессилие всех реформистских идей уже достаточно продемонстрировано не только в политике, но и в культуре и кино; особенно в кино, история которого — это история империалистического, по большей части американского гнета.
Хотя в ранний период истории (или предыстории) кинематографа можно было говорить о немецком, итальянском и шведском кино, которые отличались друг от друга и имели четкие национальные характеристики, сегодня эти различия исчезли. Границы сметены наступлением американского империализма и навязанной им голливудской киномодели. В наше время что в капиталистических, что в социалистических странах в рамках коммерческого кинематографа, включая так называемое авторское кино, сложно найти фильм, который избегал бы голливудских моделей. Они закрепились настолько прочно, что монументальные работы вроде советской «Войны и мира» Бондарчука представляют собой не менее монументальные примеры подчинения всем лекалам американской киноиндустрии (структура, язык и т. д.), а следовательно, и ее концепциям.
Помещение кинематографа в рамки американских моделей даже в формальном аспекте — в языке — приводит к усвоению идеологических форм, которые породили именно этот конкретный язык. Даже принятие моделей, которые кажутся чисто техническими, промышленными, научными и т. п., приводит к концептуальной зависимости. Ведь кинематограф — это индустрия, которая отличается от других тем, что она была создана и организована, чтобы производить определенную идеологию. 35-миллиметровая камера, 24 кадра в секунду, дуговые лампы и место коммерческого показа зрителям — все это было задумано не для того, чтобы безвозмездно транслировать любую идеологию, а для того, чтобы в первую очередь удовлетворять потребности конкретной идеологии и конкретного мировоззрения в культуре и прибавочной стоимости. Это мировоззрение свойственно американскому капиталу.
Механистический захват кинематографа и видение в нем шоу, которое демонстрируется в крупных кинотеатрах, имеет стандартную продолжительность и герметичную структуру, рождающуюся и умирающую на экране, без сомнения, служит коммерческим интересам продюсерских групп. Но оно также ведет к усвоению форм буржуазного мировоззрения, которое продолжает буржуазное по своей сути искусство XIX века: человек воспринимается исключительно как пассивный, потребляющий объект; его способность менять историю замещается лишь правом читать историю, размышлять о ней, слушать ее и быть ее винтиком. Кинематограф как зрелище, нацеленное на переваривающий объект, — это наивысшая точка, которой способно достичь буржуазное кинопроизводство. Мир, опыт и исторический процесс заключаются в рамку картины, в границы театральной сцены и киноэкрана; человек видится потребителем, а не создателем идеологии. Это — отправная точка чудесного переплетения буржуазной философии и получения прибавочной стоимости. Результат — кинематограф, который изучают мотивационные аналитики, социологи и психологи, бесконечные исследователи мечтаний и фрустраций масс, — и все они намерены продвигать киножизнь, реальность, какой ее видят правящие классы.
Первая альтернатива этому типу кинематографа, который можно назвать «первым кино», возникла в так называемом авторском кинематографе, экспрессионистском кинематографе, «новой волне», «новом кино» — или, условно говоря, «втором кино». Эта альтернатива означала шаг вперед, поскольку она требовала от режиссера свободы самовыражения на нестандартном языке и являлась попыткой культурной деколонизации. Но такие попытки уже достигли или вот-вот достигнут границ того, что дозволено Системой. Режиссер «второго кино» остался, по словам Годара, «запертым в крепости», или скоро окажется заперт. Поиск рынка в 200 тысяч кинозрителей в Аргентине (предполагается, что такое количество покроет расходы на местный независимый фильм); предложение разработать механизм производства, параллельный механизму Системы, который при этом будет распространяться Системой в соответствии с ее собственными нормами; борьба за улучшение законов, которые защищают кинематограф, и замену «плохих» чиновников «менее плохими» и т. п. — у всего этого нет жизнеспособных перспектив, если только не считать жизнеспособной перспективу институционализации в качестве «молодого, рассерженного крыла общества» — понятное дело, неоколонизованного или капиталистического общества.
Настоящие альтернативы, отличные от предлагаемых Системой, возможны только при выполнении одного из двух требований: производство фильмов, которые Система не может ассимилировать и которые чужды ее нуждам, или производство фильмов, которые прямо и явно намерены бороться с Системой. Ни одному из этих требований не соответствуют альтернативы, которые предлагает «второе кино», но им удовлетворяет революционное стремление к кинематографу, который находится за пределами и направлен против Системы, к кинематографу освобождения — «третьему кино».
Один из самых эффективных итогов неоколониализма — это отрезание интеллектуальных слоев, а особенно художников, от национальной реальности и выстраивание их в ряд за ширмой «универсального искусства и моделей». Интеллектуалы и художники часто оказываются в хвосте народной борьбы — это если они не являются ее противниками. Социальные слои, которые внесли наибольший вклад в создание национальной культуры (которая понимается как импульс к деколонизации), — это не просвещенные элиты, а самые эксплуатируемые и нецивилизованные слои. Народные организации недаром не доверяют «интеллектуалам» и «художникам». Когда их не «открыто использует буржуазия или империализм», они остаются косвенными инструментами; большинство из них способно только разглагольствовать о «мире и демократии»; они опасаются всего, в чем есть национальный компонент, боятся запачкать искусство политикой, а художников — революционным повстанчеством. Так они обычно скрывают внутренние причины, которые определяют неоколонизованное общество, и выводят на первый план внешние причины, которые, хотя и «являются условиями для перемен, не могут быть основами этих перемен». В Аргентине они заменили борьбу с империализмом и местной олигархией борьбой демократии против фашизма, подавив фундаментальное противоречие неоколонизованной страны и заменив его «копией всемирного противоречия».
Отстранение интеллектуальных и творческих слоев от процессов национального освобождения — которое, помимо прочего, помогает нам понять ограничения, в которых эти процессы сейчас разворачиваются, — преодолевается, так как художники и интеллектуалы начинают осознавать, что врага невозможно уничтожить, не присоединившись сперва к битве за общие интересы. Художник начинает понимать недостаточность своего нонконформизма и индивидуального бунта. А революционные организации, в свою очередь, обнаруживают пустоты, которые борьба за власть создает в культурной сфере. Проблемы кинопроизводства, идеологические ограничения режиссеров в неоколонизованной стране и т. п. пока что являются объективными факторами, которые способствуют тому, что народные организации уделяют кинематографу недостаточно внимания. Газеты и другие печатные материалы, постеры, пропаганда на стенах, речи и другие вербальные формы информирования, просвещения и политизации остаются главными средствами коммуникации между этими организациями и передовыми слоями масс. Но новые политические позиции некоторых режиссеров появление соответствующих им фильмов, полезных для дела освобождения, позволяют части политического авангарда открыть для себя важность кинематографа. Эта важность коренится в специфической функции фильмов как формы коммуникации и в определенных свойствах кино, которые позволяют привлекать аудиторию различного происхождения, значительная часть которой не откликнулась бы благосклонно на анонс политической речи. Фильмы — эффективный предлог для того, чтобы собрать аудиторию. Вдобавок к этому они содержат идеологическое сообщение.
Проникающая способность кинообразов и их способность к синтезу; возможности, предлагаемые этим живым документом; обнаженная реальность и просветительская сила аудиовизуальных средств делают фильмы самым эффективным средством коммуникации. Вряд ли нужно подчеркивать, что фильмы, которые умно используют изобразительные возможности, содержат верную пропорцию идей, языка, структур, переходящих от темы к теме, и контрапунктов аудиовизуального нарратива, достигают наилучших результатов в политизации и мобилизации кадров, и даже в работе с массами там, где это возможно.
Студенты, которые воздвигли баррикады на проспекте 18 Июля в Монтевидео после просмотра «Часа печей»; растущий спрос на фильмы вроде тех, что снимают Сантьяго Альварес и кубинское движение документалистов; а также дебаты и встречи после подпольных или полупубличных показов фильмов «третьего кино» — это начало сложного и извилистого пути, по которому в потребительских обществах идут массовые организации (Cinegiornali liberi в Италии, документальные фильмы Zengakuren в Японии и др.). Впервые в Латинской Америке организации готовы и намерены использовать фильмы для достижения политических и культурных целей: чилийская социалистическая партия выдает своим членам революционные киноматериалы; в Аргентине революционные перонистские и не-перонистские группы также заинтересовались этим приемом. Более того, ОСНААЛА (Организация солидарности народов Африки, Азии и Латинской Америки) участвует в производстве и распространении фильмов, способствующих борьбе с империализмом. Революционные организации обнаружили нужду в кадрах, которые, помимо прочего, умеют наиболее эффективным образом обращаться с кинокамерой, магнитофонами и проекторами. Борьба за отстранение врага от власти — площадка, на которой встречаются политический и артистический авангард, выполняющие общую задачу, которая обогащает обе стороны.
Некоторые обстоятельства, которые до недавнего времени не позволяли использовать фильмы как инструмент революции: нехватка оборудования, технические сложности, обязательная специализация каждого этапа работы и высокая стоимость. В каждой из этих областей имел место прогресс: кинокамеры и магнитофоны стали проще; сами материалы стали лучше: кассеты «Рапид» (rapid film) позволяют снимать в естественном освещении; появились автоматические экспонометры; улучшилась синхронизация звука и изображения; ноу-хау стали распространяться в многотиражных специализированных журналах и даже в неспециализированных СМИ. Все это помогло демистифицировать кинопроизводство и лишить его магической ауры, которая заставляла верить, будто фильмы доступны лишь «художникам», «гениям» и «привилегированным». Кинопроизводство становится все доступнее для широких социальных слоев. Крис Маркер экспериментировал во Франции с группами рабочих, выдав им 8-миллиметровые камеры и немного научив с ними обращаться. Цель была в том, чтобы рабочие сняли свой взгляд на мир, описали его по-своему. Это открыло кинематографу неслыханные перспективы; прежде всего, это новая концепция кинопроизводства и новое значение искусства в наши дни.
Империализм и капитализм, как в потребительском обществе, так и в неоколонизованной стране, накрывают все вуалью из образов и видений. Образ реальности важнее, чем сама реальность. Этот мир населен фантазиями и призраками, все уродливое одето красотой, а красота замаскирована под уродство. С одной стороны — фантазии, воображаемая и комфортная буржуазная вселенная, равновесие, логика, порядок, эффективность и возможность «быть кем-то». С другой стороны — фантомы, «мы ленивые», «мы вялые» и «мы недоразвитые», «мы, творящие беспорядок». Когда неоколонизованный человек принимает свое угнетенное положение, он превращается в Гангу Дина, предателя на службе колонизаторов; в дядюшку Тома, классового и расового отступника; или в дурачка, беспечного слугу и деревенщину. Но если он отказывается принимать свое угнетенное положение, он становится возмущенным дикарем, каннибалом. Те, кто теряет сон от страха перед голодными, те, из кого состоит Система, видят в революционере бандита, грабителя и насильника; поэтому первая битва ведется не в политической плоскости, а в полицейском контексте законов, арестов и т. п. Чем больше эксплуатируется человек, тем меньше он ценится. Чем больше он сопротивляется, тем больше в нем видят чудовище. Это видно в фильме «Прощай, Африка», снятом фашистом Джакопетти: африканские дикари, звери-убийцы погрязли в ужасающей анархии, как только избавились от защиты белых. Тарзан умер; вместо него родились лумумбы и лобегулы, нкомо и мадзимбамуто, и этого неоколониализм простить не может. Фантазии сменились фантомами, а человек превратился в статиста, который умирает, чтобы Джакопетти смог спокойно снять его казнь.
Я творю революцию, следовательно, я существую. С этого начинается исчезновение фантазии и фантома, которые уступают место живым людям. Кинематограф революции — это одновременно кинематограф разрушения и созидания. Разрушения образа, который неоколониализм создал себе и нам, — и созидания живой, дышащей реальности, которая отвоевывает правду во всех ее воплощениях.
Возврат истинного места и смысла — это подрывное действие как в неоколониальной ситуации, так и в потребительских обществах. В первом случае кажущаяся двусмысленность или псевдообъективность газет, литературы и проч., а также относительная свобода народных организаций поставлять собственную информацию прекращают свое существование, сменяясь явными ограничениями, как только речь заходит о телевидении и радио — двух важнейших СМИ, которыми управляет и которые монополизировала Система. Прошлогодние майские события во Франции ясно это демонстрируют.
В мире, где правит нереальное, художественное выражение искусственно направляется в русло фантазий, вымысла, шифров, языка жестов и смыслов, прошептанных между строк. Искусство отрезается от конкретных фактов — они, с точки зрения неоколонизаторов, являются обвинительными свидетельствами — и обращается само к себе, зажимаясь в мире абстракций и фантомов, где оно становится «вневременным» и «внеисторическим». Можно говорить о Вьетнаме, но только далеко от Вьетнама; можно говорить о Латинской Америке, но только подальше от этого континента — там, где тема деполитизирована и не ведет ни к каким действиям.
Так называемый документальный кинематограф, при всей необъятности этого понятия сегодня — от образовательных фильмов до реконструкции факта или исторического события, — вероятно, является основой революционной кинопродукции. Каждый образ, который документирует, свидетельствует, опровергает или подтверждает правдивую историю, — это не просто кинокартинка, не просто художественное событие. Это то, чего не может переварить Система.
Документирование национальной реальности — бесценное средство диалога и познания на мировой арене. Никакая интернациональная форма борьбы не будет успешной без взаимного обмена народным опытом, если люди не смогут успешно вырваться из процесса балканизации, которую империализм пытается поддерживать на международном, континентальном и государственном уровнях.
Нет никакого знания о реальности, пока на эту реальность не реагируют действием, пока ее изменение не началось на всех фронтах борьбы. Знаменитую цитату из Маркса стоит повторять снова и снова: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
При таком подходе режиссеру остается найти собственный язык; язык, который возникнет из повстанческого, преображающего мировоззрения — из той области, которую нужно менять. Здесь стоит отметить, что некоторые политические кадры до сих пор придерживаются старых догматов, требующих от художника или режиссера демонстрировать примирительный взгляд на реальность, который скорее соответствует благим мечтаниям, чем реальному положению дел. Такой подход в итоге маскирует недостаток уверенности в возможностях самой реальности и в некоторых случаях приводит к использованию киноязыка для идеализированной иллюстрации факта, к желанию устранить глубокие противоречия реальности, ее диалектическое богатство — а ведь именно эта глубина и делает фильм прекрасным и эффективным. Реальность революционных процессов по всему миру, несмотря на их запутанную и негативную сторону, следует одному курсу, обладает общностью настолько богатой и воодушевляющей, что его не нужно запихивать в схему пристрастных и узких взглядов.
Памфлеты, дидактические фильмы, репортажи, эссе, киносвидетельства — годится любая протестная форма выражения, и было бы абсурдно закладывать набор эстетических норм. Будьте чуткими к тому, что могут предложить люди, и сами предлагайте им лучшее — или, как сказал Че, если уважаете людей, давайте им «качество». Это стоит помнить, учитывая латентные тенденции революционных художников понижать уровень исследования и языка — и скатываться к своего рода неопопулизму. Не исключено, что массы действительно находятся на этом уровне, но оттуда невозможно помочь им избавиться от препон империализма. Эффективность лучших фильмов протестного кинематографа показывает, что социальные слои, которые считаются отсталыми, не хуже других способны понять точное значение цепочки образов, постановочные эффекты и лингвистические эксперименты, помещенные в контекст некой идеи. Более того, революционный кинематограф не просто иллюстрирует, документирует или пассивно описывает ситуацию; скорее, он пытается вмешаться в эту ситуацию в качестве элемента, который дает толчок к исправлению. Иными словами, фильм посредством преображения приводит к открытию.
Различия между процессами освобождения не позволяют описать универсальные нормы. Кинематограф, который в потребительском обществе не достигает уровня окружающей реальности, способен играть стимулирующую роль в недоразвитой стране; точно так же революционный кинематограф неоколонизованной страны необязательно останется революционным, если его механически перенести в метрополию.
Учить обращению с оружием — революционный шаг там, где есть потенциально или явно жизнеспособные лидеры, готовые окунуться в борьбу за власть. Но это не революционный шаг там, где массам не хватает осознания собственного положения, или там, где массы уже умеют обращаться с оружием. Так, кинематограф, который настойчиво разоблачает неоколониальную политику, оказывается пешкой в реформистской игре, если понимание этой политики уже есть в массовом сознании. В данном случае революционный шаг — это исследование причин, выяснение того, как можно организоваться и вооружиться для перемен. Так, империализм может спонсировать фильмы, которые борются с неграмотностью, и эти картины будут соответствовать нуждам империалистической политики; а вот производство таких фильмов на Кубе после триумфа Революции было революционным шагом. Хотя отправной точкой было стремление научить читать и писать, конечная цель радикально отличалась от империалистической: они готовили людей к освобождению, а не к подчинению.
Модель идеального произведения искусства, полноценный фильм, структурированный согласно лекалам, навязанным буржуазной культурой, а также его теоретики и критики только мешают режиссерам в зависимых странах — особенно если режиссер пытается выстроить сходные модели в реальности, которая не предлагает ему ни культуры, ни техники, ни даже самых примитивных слагаемых успеха. Культура метрополии хранит древние секреты, которые оживляют ее модели; перенос этих моделей в неоколониальную реальность всегда служил механизмом отчуждения, ведь художник зависимой страны не может за несколько лет впитать тайны культуры и общества, которые веками ковались в совершенно иных исторических обстоятельствах. Попытка режиссеров создать нечто равное фильмам правящих стран обычно заканчивается провалом из-за наличия двух различных исторических реальностей. А такие неудачи вызывают чувство фрустрации и неполноценности. Обе эти эмоции рождаются из боязни рискнуть и выбрать совершенно новый путь, который почти полностью отрицает «их кинематограф». Из страха признать особенности и ограничения зависимости, чтобы обнаружить возможности, заложенные в этой ситуации, найти способы преодолеть ее и тем самым создать нечто оригинальное.
Существование революционного кинематографа немыслимо без постоянной и методичной практики, поиска и экспериментов. Новому режиссеру даже придется кидаться с головой в неизвестность, делать шаг в пустоту, рискуя провалиться, — в этом он сродни партизану, который идет по тропам, которые сам же для себя и прорубает с помощью мачете. Возможность обнаружить и изобрести в кино формы и структуры, которые будут демонстрировать более глубокий взгляд на нашу реальность, кроется в способности поместить себя вне привычных границ, проложить путь среди постоянных опасностей.
Наше время — это время гипотез, а не тезисов, время работы — незавершенной, неупорядоченной и яростной работы, которую мы делаем, держа в одной руке камеру, а в другой — булыжник. Эту работу невозможно оценить в соответствии с традиционными теоретическими и критическими канонами. Идеи для нашей кинотеории и кинокритики родятся в ходе практики и экспериментов, которые уничтожат преграды. «Познание начинается с практики; обретя через практику теоретические знания, нужно вновь вернуться к практике». Когда революционный режиссер начнет практиковаться, ему предстоит преодолеть бесчисленные препятствия; он ощутит одиночество тех, кто пытается добиться похвалы от системных СМИ, — и обнаруживает, что эти СМИ для него закрыты. Как сказал бы Годар, он перестанет быть лидером велопробега и превратится в рядового велосипедиста, погруженного в долгую, жестокую войну как вьетнамский партизан. Но он обнаружит, что есть восприимчивая аудитория, которая в его работах видит отражение своего собственного существования и которая готова защищать его так, как никогда не станет защищать ни одного велосипедиста-чемпиона.
В этой долгой войне камера — наша винтовка, а мы фактически становимся партизанами. Поэтому работа партизанской киногруппы подчиняется строгим дисциплинарным нормам как в плане методики, так и в плане безопасности. Революционная киногруппа находится в той же ситуации, что партизанская ячейка: она не может усилиться без военных структур и командования. Группа существует как сеть взаимодополняющих обязанностей, как сумма и синтез способностей — и слаженно функционирует под управлением руководства, которое централизует планирование и обеспечивает непрерывность работы. Опыт показывает, что непросто сохранить сплоченность группы под обстрелом Системы и сети ее сообщников, которые часто маскируются под «прогрессистов», а также в отсутствие насущных и масштабных внешних инициатив, когда члены группы должны справляться с дискомфортом и напряжением работы, которая делается подпольно и распространяется тайно. Многие уходят с поста, потому что недооценили ответственность или потому, что измеряют эту ответственность по лекалам системного, а не андеграундного кинематографа. Внутренние конфликты — это реальность для любой группы, независимо от ее идеологической зрелости. Недостаточное осознание такого конфликта в психологической и личностной плоскости, а также недостаточная зрелость в вопросах взаимоотношений всегда порождают негативные эмоции и соперничество, которые, в свою очередь, приводят к настоящим битвам, выходящим за рамки идеологических или объективных разногласий. Все это означает, что главное условие — это осознание проблем межличностных отношений, лидерства и областей компетенции. Необходимо изъясняться четко, помечать области работы, распределять зоны ответственности и подходить к задаче с партизанской строгостью.
Партизанское кинопроизводство сближает режиссера с пролетариатом и ломает границы интеллектуальной аристократии, в которые буржуазия помещает своих последователей. Иными словами, оно демократизирует. Связь режиссера с реальностью делает его частью народа. Передовые слои и даже массы начинают сообща участвовать в работе, когда понимают, что кинематограф — продолжение их повседневной борьбы. «Час печей» демонстрирует, как снимать фильм во враждебной обстановке, когда его поддерживают повстанцы и кадры из народа.
Революционный режиссер радикально по-новому видит задачу продюсера, командную работу, инструменты, детали и т. п. Прежде всего он снабжает сам себя, чтобы самому продюсировать фильмы; он снаряжает себя на всех уровнях, учится обращаться с разнообразными техниками своего ремесла. Самое ценное его имущество — это профессиональные инструменты, которые составляют неотъемлемую часть его потребности в коммуникации. Камера — неутомимый экспроприатор образов-боеприпасов (image-weapons); проектор — пулемет, стреляющий со скоростью 24 кадра в секунду.
В целом, каждый член группы должен быть знаком с используемым оборудованием. Он должен быть готов заменить соратника на любой из производственных фаз. Миф о незаменимых специалистах необходимо разрушить.
Вся группа должна придавать большое значение мелким деталям производства, а также мерам безопасности, которые защищают это производство. Недальновидность, которая на обычном кинопроизводстве останется незамеченной, здесь может пустить насмарку недели или месяцы труда. А неудача в партизанском кино, как и в самой партизанской борьбе, может означать потерю работы или полную смену планов. «В партизанской войне поражение присутствует постоянно, а победа — миф, о котором могут мечтать только революционеры». Каждый член группы должен уметь учитывать детали и обеспечивать дисциплину, скорость, а главное — желание преодолеть слабости комфорта, старых привычек и весь этот климат псевдонормальности, за которым прячутся повседневные военные действия. Каждый фильм — новая операция, новая работа, требующая сменить методы, чтобы запутать или обмануть внимание врага. Ведь проявочные лаборатории все еще в руках неприятеля.
Успех работы в большой степени зависит от способности группы соблюдать тишину и от ее постоянной бдительности. Этого сложно достичь в ситуации, когда на первый взгляд ничего не происходит, а режиссер привык рассказывать всем встречным и поперечным о том, чем он занят, потому что буржуазия приучила его заботиться о престиже и промоушне. Лозунг «постоянная бдительность, постоянная осторожность, постоянная мобильность» очень хорошо применим к партизанскому кинематографу. Нужно сделать вид, что работаешь на разных проектах, разделить материал, сложить его вместе, разобрать, запутать, нейтрализовать, сбить всех со следа. Все это необходимо, пока у группы нет собственного проявочного оборудования — неважно, насколько примитивного, — а в традиционных лабораториях все еще остаются определенные возможности.
Сотрудничество групп из разных стран может помочь завершить фильм или некоторые этапы работы, которые в родной стране невозможны. К этому стоит добавить несколько слов о необходимости центра, с помощью которого можно собирать материалы для использования различными группами и формировать перспективу координации в континентальном или даже мировом масштабе, а также обеспечивать непрерывность работы в каждой стране: проводить периодические региональные и международные собрания для обмена опытом, общего вклада в дело, совместного планирования и т. п.
По крайней мере, на самых ранних стадиях революционный режиссер и рабочие группы будут единственными продюсерами своих фильмов. Они должны сами искать способы облегчить продолжение работы. Партизанский кинематограф еще не накопил достаточного опыта для установления стандартов в этой области; имеющийся опыт говорит прежде всего о том, что нужно пользоваться конкретной ситуацией каждой страны. Но вне зависимости от того, какой может быть эта ситуация, подготовкой фильма нельзя заниматься без одновременного изучения его будущей аудитории и, следовательно, без плана по возвращению вложенных средств. И здесь снова возникает необходимость в более тесных связях политического и артистического авангардов, потому что эта связь способствует совместному изучению форм производства, показа и преемственности.
Партизанский фильм может быть нацелен лишь на те механизмы дистрибуции, которые предлагаются революционными организациями, а также на механизмы, обнаруженные или придуманные самими режиссерами. Производство, распространение и экономические возможности выживания должны быть частью единой стратегии. Решение проблем, встающих в каждой из этих областей, побудит других людей присоединиться к партизанскому кинематографу: его ряды начнут расти и он станет менее уязвимым.
Распространение партизанских фильмов в Латинской Америке все еще в зачаточной стадии, ведь ответные удары Системы де-факто приобрели легальный статус. Достаточно упомянуть о налетах в Аргентине, которые случаются на некоторых показах, и о недавнем законе о запрете фильмов, который имеет очевидно фашистский характер; в Бразилии все больше ограничений накладывается на самых активных товарищей по cinema novo; а в Венесуэле запрещен «Час печей»; почти по всему континенту цензура мешает широкой дистрибьюции фильмов.
Без революционных фильмов и требующей их публики любая попытка открыть новые каналы распространения обречена на провал. Но и то и другое в Латинской Америке уже есть. Появление таких фильмов открыло в некоторых странах вроде Аргентины следующий путь: показы в домах и квартирах, где аудитория не превышает 25 человек; в других странах, например в Чили, фильмы показывают в церковных приходах, университетах или культурных центрах (которых с каждым днем становится все меньше); а в Уругвае имели место показы в крупнейшем кинотеатре Монтевидео с аудиторией в 2500 человек; мест не было, а каждый просмотр превращался в страстное выступление против империализма. Но перспективы континента указывают на то, что возможность выживания революционного кинематографа зависит от укрепления подпольных структур.
Практика подразумевает ошибки и неудачи. Некоторые товарищи позволяют себе увлечься успехом и безнаказанностью, с которой они проводят первые показы, — и ослабляют меры безопасности; другие идут в обратном направлении и окружают себя избыточной осторожностью и опасениями настолько, что распространение невозможно и ограничивается лишь кругом друзей. Только конкретный опыт в каждой стране укажет на лучшие методы — причем эти методы далеко не всегда применимы в других ситуациях.
В некоторых местах можно будет создать инфраструктуры, связанные с политическими, студенческими, рабочими и другими организациями; а в других местах будет лучше продавать отпечатанную пленку организациям — а они уже займутся добыванием средств, которые необходимы, чтобы оплатить каждую копию (цена отпечатка плюс небольшая сумма). Этот метод кажется наиболее жизнеспособным, потому что он позволяет децентрализовать распространение, использовать фильм в более глубоких политических целях, а также с помощью продажи копий вернуть деньги, вложенные в производство. Впрочем, во многих странах организации еще не в полной мере осознали важность этой работы, а если и осознали, то у них недостаточно средств, чтобы ее осуществить. В таких случаях можно использовать другие методы: например, привозить копии организаторам каждого показа, самостоятельно содействуя распространению и получая кассовые сборы напрямую. В идеале цель в том, чтобы производить и распространять партизанские фильмы на фонды, экспроприированные у буржуазии, — то есть буржуазия финансировала бы партизанский кинематограф на часть прибавочной стоимости, которую получает от народа. Но пока эти цели лежат лишь в области далеких надежд, и возможности возмещения расходов на производство и дистрибьюцию, открытые революционному кинематографу, в некоторой степени схожи с возможностями обычного кинематографа: каждый зритель должен заплатить ту же сумму, которую он платит за просмотр системного фильма. Финансирование, субсидирование, оснащение и поддержка революционного кинематографа — политическая ответственность революционных организаций и повстанцев. Можно снять фильм, но если его дистрибьюция не позволят покрыть расходы, то снять второй фильм будет сложно или даже невозможно.
16-миллиметровые проекторы в Европе (20 тысяч выставочных центров в Швеции, 30 тысяч — во Франции) — не лучший вариант для неоколонизованных стран. Но все-таки это дополнительный источник средств, особенно в ситуации, когда такие залы могут сыграть важную роль в освещении борьбы третьего мира, которая все больше соотносится с борьбой, ведущейся в странах-метрополиях. Фильм о венесуэльских партизанах европейской публике скажет больше, чем двадцать объясняющих памфлетов. А нам, в свою очередь, гораздо больше скажет фильм о майских событиях во Франции или о студенческой борьбе в американском Беркли.
Интернационал партизанских фильмов? А почему бы и нет? Разве не факт, что благодаря борьбе третьего мира, а также благодаря ОСНААЛА и революционным авангардам потребительских обществ рождается новый Интернационал?
Партизанский кинематограф на этом этапе досягаем лишь для некоторых слоев общества. Тем не менее это единственный возможный на сегодняшний день массовый кинематограф, потому что только он выражает интересы, чаяния и перспективы подавляющего большинства людей. Каждый важный фильм, созданный революционным кинематографом, прямо или косвенно станет национальным событием масс.
Кинематограф масс, которому не дают выйти за рамки слоев, составляющих массы, с каждым показом, как и в ходе революционной военной операции, создает освобожденное пространство, деколонизованную территорию. Показ может быть превращен в своего рода политическое событие, которое, по словам Фанона, может стать «литургическим актом, привилегированной возможностью для людей услышать и быть услышанными».
Протестный кинематограф должен уметь извлекать бесконечное количество новых возможностей, которые открываются ему в наложенных Системой проскрипциях. Попытка преодолеть неоколониальное угнетение требует изобретать формы связи и тем самым открывает возможности.
До и во время съемок «Часа печей» мы попробовали разные методы распространения революционного кино — все то немногое, что мы тогда придумали. Каждая демонстрация повстанцам, кадрам среднего уровня, активистам, рабочим и университетским студентам превратилась — хотя мы не ставили перед собой такой цели — в заседание ячейки, на котором фильмы были частью повестки дня, но не самым важным фактором. Так мы открыли новую грань кинематографа: активное участие людей, которых мы до того момента считали зрителями.
Иногда из соображений безопасности мы распускали группу сразу после показа — и поняли, что в распространении таких фильмов мало смысла, если они не дополнены участием товарищей, если на предложенную фильмами тему не начинаются дебаты.
Мы также выяснили, что каждый товарищ, который присутствует на таких показах, прекрасно осознает, что нарушает законы Системы и в итоге подвергает себя риску репрессий. Такой человек переставал быть зрителем; напротив, с того самого момента, как он решил прийти на показ, он переходил на нашу сторону, рискуя и привнося на собрание свой личный опыт; он становился действующим лицом, протагонистом, более важным, чем те, что появлялись на экране. Такой человек искал других столь же вовлеченных людей — и сам, в свою очередь, вовлекался в них. Зритель уступал место актеру, который искал себя в других.
За пределами пространства, которое фильмы помогали на время освободить, были лишь одиночество, отсутствие коммуникации, недоверие и страх; внутри освобожденного пространства каждый превращался в сообщника происходившего действа. Спонтанно начинались дебаты. Мы становились опытнее — и начали включать в показы различные элементы (мизансцену), чтобы усилить темы, затронутые в фильмах, разогреть общую атмосферу показа, «растормозить» участников и диалог: мы записывали стихи и музыку, ставили скульптуры, вешали картины и афиши, посадили в зал ведущего, который председательствовал на дебатах и рассказывал о фильме, просили товарищей высказываться, поставили вино, мате и т. п. Мы поняли, что у происходящего три важных составляющих:
1) товарищи-участники, люди-актеры-сообщники, которые пришли на зов;
2) свободное пространство, где можно озвучить свои тревоги и идеи, политизироваться и начать путь к свободе; а также
3) фильм, который служит лишь детонатором и предлогом.
Из этих данных мы заключили, что фильм может стать гораздо эффективнее, если будет учитывать эти составляющие и подчинит свою собственную форму, структуру, язык и сообщение этому действу и этим деятелям; иными словами, если фильм будет стремиться к собственному освобождению путем вложения себя в других, главных протагонистов жизни, и подчинения им. С помощью правильного использования времени, которое эта группа актеров-персонажей дарила нам, рассказывая свои, такие разные, истории; с помощью пространства, которое предоставляли некоторые товарищи; а также с помощью самих фильмов, было необходимо попытаться превратить время, пространство и труд в освободительную энергию. Так начала расти идея структурирования того, что мы решили назвать «киноактом», «кинодейством». Это одна из форм, которая, по нашему мнению, крайне важна для укрепления линии «третьего кино». Первые эксперименты в этой области, хотя и достаточно неуверенные, можно обнаружить во второй и третьей части «Часа печей» («Закон освобождения», главным образом начиная с «Хроники сопротивления» и «Насилия и освобождения»).
Товарищи [говорили мы перед началом «Закона освобождения»], это не просто показ фильма и тем более не зрелище; это в первую очередь акт — акт антиимпериалистического единства; здесь место только тем, кто отождествляет себя с этой борьбой, тут нет места зрителям или сообщникам врага; здесь есть место только для авторов и героев процесса, который этот фильм пытается запечатлеть и развить. Фильм — это повод для диалога, для поиска и встречи намерений. Этот отчет, который мы представляем на ваше рассмотрение и который мы обсудим после показа.
Выводы [говорили мы в другом месте второй части], к которым придете вы, главные авторы и герои этой истории, очень важны. Тот опыт и те выводы, которые собрали мы, имеют относительную ценность: они полезны в той степени, в которой они полезны вам — настоящему и будущему освобождения. Но самое главное — это действия, на которые могут подвигнуть эти выводы, единство на основе фактов. Поэтому фильм кончается здесь. Он открыт для того, чтобы вы могли его продолжить.
Киноакт означает фильм с открытым концом. Это, по сути, способ познания.
Следовательно, первым шагом процесса познания является первое соприкосновение с явлениями внешнего мира — ступень ощущений [на экране — живая фреска изображения и звука]. Вторым шагом является обобщение данных, полученных из ощущений, упорядочение их и переработка — ступень понятий, суждений и умозаключений [на экране — диктор, репортажи, дидактика или же рассказчик, сопровождающий показ]. А потом наступает третий этап — познание. Активная роль познания выражается не только в активном скачке от чувственного познания к рациональному, но, что еще важнее, в скачке от рационального познания к революционной практике… Такова, в общих чертах, теория единства познания и действия диалектического материализма [в процессе кинодейства это участие товарищей, предлагаемые ими действия и сами действия, которые потом возымеют место].
Более того, каждая демонстрация фильма предполагает новую обстановку, ведь пространство, где она происходит, составляющие ее материалы (актеры-участники) и историческое время постоянно меняются. А значит, результат каждой демонстрации будет зависеть от организаторов, от участников, от времени и места; возможности варьирования, добавлений и изменений безграничны. Показ кинодейства всегда будет так или иначе отражать историческую ситуацию, в которой он происходит; его перспективы не истощатся в ходе борьбы за власть, а напротив, после захвата власти продолжат укреплять революцию.
Человек «третьего кино», будь это партизанское кино или кинодейство со всеми их бесконечными категориями (фильм-письмо, фильм-поэма, фильм-эссе, фильм-памфлет, фильм-репортаж и т. п.), прежде всего, противопоставляет персонажному кинематографу тематический, индивидуальному — массовый, авторскому — кинематограф оперативной группы, фильмам неоколониальной дезинформации — информационные фильмы, кинематографу эскапизма — кинематограф правды, кинематографу пассивности — кинематограф агрессии. Институционализированному кинематографу он противопоставляет партизанский; фильмам как шоу — кинодейство или само действие; кинематографу разрушения — кинематограф одновременно и разрушения, и созидания; кинематографу, созданному для людей старого рода, — кинематограф для новых людей: для людей, которыми может стать каждый из нас.
Деколонизация режиссеров и фильмов произойдет одновременно; и то и другое будет способствовать коллективной деколонизации. Битва ведется извне с нападающим на нас врагом, но также и внутри, с вражескими идеями и моделями, которые можно найти в каждом из нас. Разрушение и созидание. Деколонизация спасает самые чистые и витальные импульсы. Колонизации умов она противопоставляет революцию совести. Мир изучается, распутывается, открывается заново. Люди — свидетели постоянного удивления, своего рода второго рождения. Они вновь обретают прежнюю простоту, готовность к приключениям; их спящее негодование оживает.
Освобождение запрещенной правды означает освобождение возможности гнева и разрушения. Наша правда, правда нового человека, который создает себя, избавляясь от дефектов, что до сих пор тянут его вниз, — это бомба неистощимой мощи и в то же время единственная реальная возможность жизни. В эту попытку революционные режиссеры вкладывают свои подрывные наблюдения и чувства, воображение и воплощение. Масштабные темы: история страны, любовь и нелюбовь между повстанцами, усилия просыпающегося народа — все это заново рождается перед объективом деколонизованной камеры. Режиссер чувствует это впервые. Он обнаруживает, что внутри Системы ничто не годится, а вне Системы и против нее годится все, потому что еще ничего не сделано. То, что вчера казалось нелепой авантюрой, как мы говорили в начале, сегодня постулируется как неизбежная необходимость и возможность.
Пока что мы высказываем идеи и рабочие предложения. Эти идеи наметили гипотезу, которая рождается из нашего личного опыта, и добьются позитивных результатов, даже если приведут лишь к жарким дебатам о перспективах нового революционного кино. Пустоты, существующие на художественных и научных фронтах революции, достаточно известны, чтобы противник не пытался их присвоить, в то время как мы пока еще не в состоянии сделать это сами.
Почему фильмы, а не иная форма художественной коммуникации? Наши размышления и предложения сосредоточены вокруг кино потому, что таков фронт нашей работы, и потому, что рождение «третьего кино» стало, по крайней мере для нас, самым важным художественным революционным событием нашего времени.
Читайте также
-
Неправильные пчелы — «Бугония» Йоргоса Лантимоса
-
Русский след — Русская литература в руках героев зарубежного кино
-
Only business — Деловые люди на экране
-
В ожидании жанра — «Вдохновитель» Келли Райхардт
-
Человек. Слон — «Слоны-призраки» Вернера Херцога
-
Земную жизнь пройдя на три четвертых — «Джей Келли» Ноа Баумбаха