Энтузиазм
СЕАНС – 47/48
Рудольф Штейнер в лекциях о «Фаусте» назвал это произведение Гете «величайшей поэмой стремления». «Поэма стремления», считал Штейнер, по определению не могла достичь совершенства. В записях Гете он нашел следующее высказывание: «Как достигнуть… Борьба между формой и бесформенным». Форму, считал Штейнер, в драматической поэме воплощает здравомыслящий Вагнер. Фауст же стремится освободиться от формы, несущей в себе неподвижность; стремится к истинно бесформенному.
Выход за пределы формы придает поведению Фауста экстатический характер. Он не хочет быть ни на «своем» месте, ни в «своем» времени. Штейнер, впрочем, старается доказать, что помыслы Фауста устремлены по преимуществу в прошлое, в классическую античность. Думаю, что это не совсем так. Неслучайно именно Вагнеру отданы слова: «Однако есть ли что милей на свете, // Чем уноситься в дух былых столетий…» (с. 27)1. О себе же Фауст говорит: «Я рвусь вперед, как во хмелю» (с. 24). И далее: «Все шире даль, и тянет ветром свежим, // И к новым дням и новым побережьям // Зовет зеркальная морская гладь. // Слетает огненная колесница, // И я готов, расправив шире грудь, // На ней в эфир стрелою устремиться // К неведомым мирам направить путь» (с. 31). Этот выход из себя, до эпохи Возрождения ведомый лишь мистикам, стал неотъемлемой чертой того, что Лосев назвал «ренессансным титанизмом». Человека Возрождения характеризует прежде всего необузданная страсть к знанию и самоутверждению вопреки сковывающим нормам морали. Фауст признает, что возомнил себя богоравным. Примерно с ХVI века этот экстатический порыв принял форму ненасытной любознательности, изменившей восприятие мира и способ познания. Мир расслоился на множество неизведанных объектов, не имеющих прямой связи с настоящим и реальностью как таковой. Для того, чтобы удовлетворить порыв и нечто познать, требовался своего рода прыжок в неизвестное.
1 Здесь и далее «Фауст» в переводе Б. Пастернака цит. по: Гете И. В. Собр. соч.: в 10 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2.
Хельга Новотны, недавно выпустившая книгу о феномене ненасытной любознательности, пишет: «Грядущее может пониматься как плавный переход или же как «продолжение настоящего» с открытым горизонтом будущего, вступившего в историю вместе с европейским Новым временем»2.
2 Nowotny H. Insatiable Curiosity. Innovation into Fragile Future. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. P. 2.

Фауст уже принадлежит тому времени, которое ставит под сомнение возможность плавного перехода в будущее; отсюда постоянный порыв вовне. Именно в этом контексте, как мне представляется, и приобретает важное значение мотив остановившегося мгновения. Фауст связывает свою смерть с остановкой движения:
Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!»
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни (с. 61).
Мгновение (Augenblick) — это лишь умозрительный промежуток, соединяющий прошлое с будущим. Остановить мгновение — значит разорвать эту связь. Фауст прямо говорит об остановке времени, которое служит связью между тем, что было, и тем, что будет: «Тогда пусть станет часовая стрелка» (Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, // Es sei die Zeit für mich vorbei!)3. Смерть в таком случае — это не вхождение в вечность, но разрыв в движении.
3 Холодковский переводит точнее: «И станет стрелка часовая, // И время минет для меня».
Харальд Вайнрих в своей «истории беспамятства» пишет о том, что задача Мефистофеля — заставить забыть Фауста о данном им обещании, о фатальности желания остановить мгновение. Именно поэтому, по мнению Вайнриха, Мефистофель и гонит Фауста с места на место, не давая ему остановиться. Парадоксально, но мешая Фаусту остановиться, Мефистофель как бы лишает его памяти и не позволяет думать о прошлом; тем самым он гонит своего подопечного прочь и от того самого мгновения, которое тот хотел бы остановить. В момент смерти Фауст становится «виртуозом беспамятства»4.
4 Weinrich H. Lethe. The Art and Critique of Forgetting. Ithaca: Cornell University Press, 2004. P. 118–125.
Веками время мыслилось в соответствии с декларированным Аристотелем принципом непрерывности — условием, обеспечивающим движение тел. Но Фауст существует уже на пороге аристотелевского и современного понимания времени, сформулированного, например, младшим современником Гете Францем фон Баадером. Баадер писал о том, что изображение вечности как «неподвижного и замерзшего присутствия» ошибочно. Вечность должна включать в себя и прошлое, и будущее. «Все, что в вечности, — писал он, — то есть все то, что включено в завершенную жизнь (совершенную, или абсолютную, так как это и есть смысл вечной жизни), должно признаваться как постоянно существующее, всегда существовавшее и призванное всегда существовать и, таким образом, как всегда покоящееся в движении и всегда движущееся в покое или как всегда новое и вместе с тем всегда то же самое»5.
5 Baader F. Sur la notion du temps. Munic: Charles Thienemann, 1818, P. 7–8.
Остановка мгновения в такой перспективе — это нечто совсем иное, чем представляет себе Вайнрих. Речь идет о переходе мгновения в вечность. Умозрительная точка, соединяющая прошлое с будущим, превращается в вечность, потому что именно в ней покой и движение больше не противоречат друг другу, и то, что было, как
бы совпадает с тем, что будет. Движение перестает быть противоположностью покоя: речь идет о завершении безостановочного движения в неком парадоксальном синтезе. Совокупность всех времен в моменте настоящего делает его «осуществленным моментом», как назвал его Эрнст Блох. Для Блоха Фауст, как и Дон Жуан, — принципиальный герой современности, в котором как никогда раньше сильно сознание еще не наступившего, незавершенного, не удовлетворенного. Это герой утопического проекта par excellence.
Для Блоха ближайшая параллель Фаусту — это дух в гегелевской «Феноменологии духа»6, так же неустанно стремящийся к невозможному завершению движения в моменте совпадения будущего с прошлым.
6 Bloch E. The Principle of Hope. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995. Vol. 3. P. 1015.

Александр Кожев указал на различие между классическим пониманием времени и тем, что было сформулировано Гегелем в «Феноменологии». Кожев назвал гегелевское время «историческим» и так определил его сущность: «Для этого времени характерен приоритет Будущего. Время, с которым имела дело догегелевская философия, шло от Прошлого через Настоящее к Будущему. Время, о котором говорит Гегель, напротив, рождается в Будущем и, проходя через Прошлое, движется к Настоящему: Будущее —> Прошлое —> Настоящее (—> Будущее). Это и есть структура собственно человеческого, т. е. исторического Времени»7. Особенностью времени, текущего из Будущего, является то, что оно рождается из Желания, обращенного на то, чего нет в реальном мире: «Только тогда и можно сказать, что движение порождено Будущим, ибо Будущее — это как раз то, чего (еще) нет, и чего (уже) не было»8.
7 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. С. 458.
8 Там же.
Это гегелевское понимание времени идеально соответствует и духу Фауста, и устремлениям Блоха. Именно оно устанавливает связь между ненасытным желанием и бегством в будущее через прошлое (или в прошлое через будущее), характерным для Фауста.
Этот новый временной аспект жизни постренессансного человека тесно связан с явлением, которое получило название «энтузиазм». Первоначально энтузиазм понимается как определенный тип религиозного сознания. Энтузиастами называли людей, которые считались одержимыми или вдохновленными богом. Но после Реформации этот термин приобрел отчетливо негативное значение, особенно после того, как Лютер назвал Томаса Мюнцера и анабаптистов Schwärmer9. В дальнейшем этим словом чаще всего называли людей, считавших себя способными на личный контакт с богом, на прыжок из земного мира в трансцендентный.
9 Энтузиаст, мечтатель, фанатик (нем.)
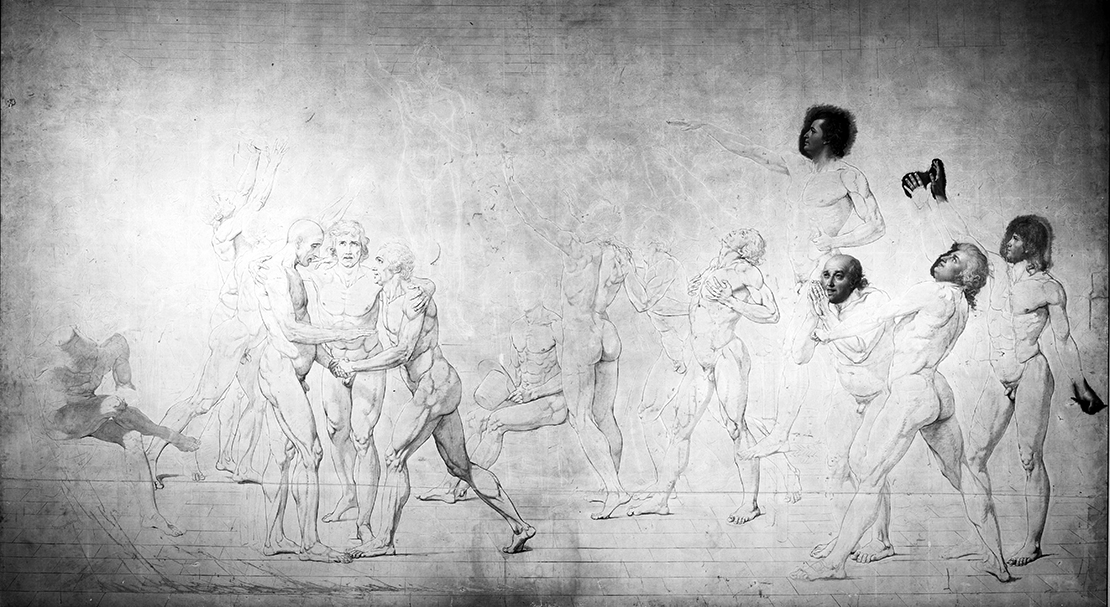
Особое значение энтузиазм приобрел в ХVII веке, когда был соотнесен с меланхолией. Роберт Бёртон в «Анатомии меланхолии» (1621) объявил энтузиазм проявлением религиозной меланхолии, расстройства гуморальной сферы организма. Согласно Бёртону, именно гуморы «отпечатывают» в энтузиастах «свои симптомы»10, которые те принимают за пророческий дар и богом ниспосланные видения. За Бёртоном меланхолическую природу энтузиазма отстаивали его младшие современники, среди которых особо следует выделить Мерика Кассобона с его «Трактатом об энтузиазме» (1655) и кэмбриджского платоника Генри Мора, написавшего Enthusiasmus Triumphatus (1662). Кассобон сформулировал влиятельное положение о двух видах энтузиазма, один из которых укоренен в физиологии, а именно в расстройстве гуморальной сферы, а второй вдохновлен богом. Дело усложнялось тем, что первый энтузиазм нередко принимается за второй: душевное расстройство — за боговдохновенность.
10 Burton R. The Anatomy of Melancholy, pt. 3. NY: Vintage, 1977. Р. 312.
Отсюда рационалистическая реакция на энтузиазм у многих мыслителей ХVII—ХVIII веков. Вот что писал, например, Локк: «Это я и считаю собственно [религиозным] исступлением. Не опираясь ни на разум, ни на божественное откровение, но возникая из причудливых измышлений разгоряченного ума, фанатизм тем не менее, раз нашедши опору, действует сильнее, чем разум и откровение вместе или в отдельности. Люди более всего склонны подчиняться импульсам, исходящим от них самих; ведь человек, безусловно, действует сильнее там, где он охвачен естественным порывом. Ибо сильная самонадеянность, словно некий принцип, становясь выше здравого смысла, легко все увлекает за собой…»11
11 Локк Д. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 2. С. 179.
Шефтсбери в «Письме об энтузиазме» (1707) рассуждал о том, что гармония энтузиазма и разума, существовавшая в античности, в последнее время была утрачена. Это привело к своеобразным изменениям в «политике, которая распространяется на иной мир и сосредоточена на будущей жизни и счастье людей в большей степени, чем на современности, заставляя нас совершать прыжок за пределы природного человечества (has made us leap the bounds of natural humanity)12». При этом Шефтсбери признавал значение чисто эстетического энтузиазма и считал себя «эстетическим энтузиастом».
12 Shaftesbury A. Characteristics. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1964. Vol. 1. P. 15.
По мнению Шефтсбери, широкое распространение с трудом сдерживаемого энтузиазма связано с общей переориентацией человечества от настоящего к будущему. Мы бы сказали сегодня, что речь идет об установке на проект, а не на настоящий момент жизни. Именно эта установка создает благоприятную почву для взрыва меланхолической гуморальности в больших социальных масштабах.

Нет сомнения в том, что Гете с самого начала, с момента работы над первым наброском к «Фаусту» — так называемым «Прото-Фаустом» (Urfaust) — мыслил своего героя меланхоликом-энтузиастом13, переходящим от моментов крайней экзальтации к разочарованию в реальности и в своих собственных силах. Эта двойственность чувствуется уже в монологе Фауста, открывающем Urfaust. Движение от религиозной экзальтации к неверию Мерик Кассобон и Генри Мор называли «маятником атеизма» и считали, что атеизм в той же мере, что и энтузиазм, отклоняется от золотой середины, предписанной разумом. Мэтью Белл, исследовавший связь гетевского «Фауста» с британским пониманием энтузиазма, так охарактеризовал метания Фауста: «Энтузиазм, разочарованный в реальности, разоблачается как эксцесс духа. В результате возникает горький пессимизм, который тоже подрывает себя изнутри. Ведь если рациональность не дает ничего, кроме горькой пустоты, то лучше быть иррациональным. Соответственно, пессимист вновь обращается к энтузиазму, и маятник вновь начинает свой цикл»14.
13 В Urfaust Фауст называет Вагнера der trockne Swärmer — «сухой энтузиаст», что, вероятно, является отсылкой к представлениям о том, что меланхолию вызывает избыток в организме черной желчи — холодной и сухой, как земля (см.: Klibansky R., Panofsky R., Saxl F. Saturn and Melancholy. London: Nelson, 1964. P. 51).
14 Bell M. Faust’s Pendular Atheism and the British Tradition of Religious Melancholy // Goethe and the English Speaking World. Essays from the Cambridge Symposium for his 250th Anniversary. London: Camden Press, 2002. P. 79.
Тема энтузиазма возникает и у старшего современника Гете — Иммануила Канта. В ответ на диспуты вокруг Schwärmerei Кант написал книгу с подчеркнуто полемическим названием, явно направленным против самой идеи энтузиазма: «Религия в пределах только разума»15. Дата выхода этой книги примечательна — 1793 год, год кульминации Французской революции, за развитием которой философ следил с напряженным вниманием. Революция была в его сознании тесно связана с темой энтузиазма, правда, понимаемого гораздо шире первоначального религиозного контекста. За эту книгу Кант получил выговор от прусского монарха Фридриха-Вильгельма II, который потребовал, чтобы философ воздержался от выступлений на тему религии. Только после смерти короля Кант почувствовал себя свободным от обязательства и вновь обратился к теме религии в книге «Спор факультетов» (1798), где речь прямо шла об энтузиазме в связи с некой неназванной революцией, опознать которую, естественно, не составляло труда.

Кант ставил вопрос о возможности прогресса и приходил к выводу, что вопрос этот не имеет решения на основании опыта. Однако, по мнению Канта, существует некий косвенный опыт, позволяющий судить о том, может ли человечество быть причиной собственного движения к лучшему. Философ считал необходимым искать некое событие, в котором такая причина себя бы обнаружила, и при этом отмечал, что само это событие не должно пониматься как причина прогресса, «а только как указывающее на него, как исторический знак (signum rememorativum, demonstrativum, prognosticon)»16. Речь идет об «указующем знаке» — знаке, прогнозирующем будущее. Таким событием Кант называл «революцию духовно богатого народа, происходящую в эти дни на наших глазах»17. Кант оценивал ее как драматическое событие, полное горя и зверств. Он не предрекал ей ни победы, ни поражения. Более того, с его точки зрения сама революция не имела никакого фундаментального смысла, кроме одного: «Эта революция, говорю я, находит в сердцах всех зрителей (не вовлеченных в эту игру) равный их сокровенному желанию отклик, граничащий с энтузиазмом, уже одно выражение которого связано с опасностью и который не может иметь никакой другой причины, кроме морального начала в человечестве»18. Кант так объясняет значение этого энтузиазма: «Граничащая с аффектом склонность к добру, энтузиазм, хотя и не заслуживающий полного одобрения, ибо аффект как таковой достоин порицания, все-таки дают на основании происходящих событий повод к важному для антропологии замечанию: истинный энтузиазм всегда тяготеет к идеальному, причем чисто моральному, к такому, как понятие права, и не может быть основан на своекорыстии. Деньгами нельзя было вызвать у противников революции рвение и душевное величие, которые пробуждало у ее сторонников правовое понятие, и даже понятие чести, присущее древней воинственной знати (аналог энтузиазма), отступало перед оружием тех, кто боролся за право народа, к которому они сами принадлежали и защитниками которого себя считали; эта экзальтация вызывала живейшую симпатию сторонней наблюдающей за событиями публики, не имевшей ни малейшего желания в них участвовать»19.
15 Впервые Кант обращается к теме энтузиазма в статье докритического периода «Опыт о болезнях головы» (1764), где пытается провести различие между «восторженностью» и «фанатизмом» (Schwärmerei). Восторженность имеет моральное основание и является условием всех великих свершений. Фанатик же «помешан на своем, как ему кажется, непосредственном вдохновении и на близком общении с небесными силами. Человеческая природа не знает более опасного наваждения. Если оно только начинается, если увлеченный им человек обладает талантами и толпа уже готова искренне принять эту закваску, то даже государству приходится терпеть проявления экстаза. Фанатизм доводит восторженного до крайности: Магомета он привел на престол, а Иоанна Лейденского — на эшафот» (Кант И. Собр. соч.: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 7. С. 153). В дальнейшем Кант избавляется от «восторженности» в обосновании морали, хотя некоторые критики Канта, например, Иоганн Шлоссер, упрекали кантовскую этику в том, что она якобы сохранила «энтузиастическое» основание (об эволюции взглядов Канта на энтузиазм см.: Fenves P. The Scale of Enthusiasm // Huntington Library Quarterly. Vol. 60. N 1–2. 1997. P. 117–152). В «Критике практического разума» Кант возвращается к проблеме энтузиазма и решительно осуждает его: «Если фанатизм в самом общем значении слова есть предпринятый согласно основоположениям переход границ человеческого разума, то этический фанатизм есть переход границ, устанавливаемых человечеству практическим чистым разумом: этот разум позволяет искать субъективное определяющее основание сообразных с долгом поступков, т. е. моральное побуждение к ним, только в самом законе, а не в чем-нибудь другом…» (Кант И. Указ. соч. Т. 4. С. 476).
16 Кант И. Указ. соч. Т. 7. С. 101.
17 Там же. С. 102.
18 Там же.
19 Там же. С. 103–104.
Иными словами, существенна не сама революция, от которой ожидать хорошего особенно не приходится, но отклик, энтузиазм, который она вызывает в душах тех, кто в ней не участвует. Именно этот энтузиазм — а не то, что мы привыкли считать «событиями» революции, — и есть подлинное событие. Фуко, комментируя текст Канта, заметил, что он направлен против телеологического понимания истории как причинно-следственной цепи событий, ведущих к лучшему будущему. Кант вырывает событие из этой последовательности, изолирует его и видит в нем знак, отсылающий к иному, невидимому, событию энтузиазма. Именно энтузиазм и есть подлинный знак прогресса, так как он указывает на наличие в душе людей стремления к справедливости, которое в конце концов неизбежно сметет тирании и приведет к установлению конституционных режимов, уважающих права человека. Только это моральное чувство указывает на возможность прогресса. Фуко пишет о революции как о «своего рода событии, чье содержание не имеет значения, но чей факт в прошлом конституирует постоянную виртуальность, гарантию будущей истории, памяти и непрерывности движения к прогрессу»20.
20 Foucault M. The Government of Self and Others. London: Palgrave Macmillan, 2010. Р. 19.

Жан-Франсуа Лиотар посвятил короткому кантовскому рассуждению целую книгу, названную «Энтузиазм». В ней он показал, до какой степени неучастие в революции существенно для Канта. Удаленный от театра действий зритель не может испытывать никакой практической заинтересованности в исходе событий. Его отношение к революции имеет эстетический характер, оно отсылает к sensus communis — общему чувству эстетического опыта, т. е. к общему, коммунитарному смыслу, — а потому взывает к консенсусу21, к общему движению душ к лучшему.
21 Lyotard J.-F. L’enthousiasme. Paris: Galilée, 1986. P. 57–60.
Эта кантовская реабилитация энтузиазма, как и выведение его за пределы религии, помогает глубже понять смысл фаустовских метаний. Многое из совершенного Фаустом лежит за пределами нравственности (и не только в кантовском понимании этого слова). Но аморальность фаустовских поступков, как и «зверства» революции, и даже вызываемые ею аффекты («ибо аффект как таковой достоин порицания»), по словам Фуко, «не имеют значения». Существенно тут именно стремление вперед, желание вырваться из status quo — иными словами, энтузиазм.
Конечно, энтузиазм Фауста трудно соотнести с нравственным чувством и назвать его чистым стремлением к идеальному. Но при этом фаустовский энтузиазм «чист», так как не имеет отношения ни к деньгам, ни к понятию чести, о котором упоминает Кант. Это чистый аффект стремления. И все-таки сам по себе энтузиазм является лишь знаком, prognosticon’ом, выражением той мощной потенциальности, о которой упоминает Фуко.

* * *
Почему я решил написать статью об энтузиазме? Дело в том, что мы, несомненно, живем в век больших проектов. Слово «проект» — одно из самых затрепанных в нынешнем лексиконе. Художники сегодня больше не пишут картин и не ваяют скульптур, они работают над
проектами. Но и за пределами искусства количество социальных, экономических, политических проектов бесконечно. Проект предполагает движение в будущее, выход из современности, ее отрицание. И в этом смысле наша эпоха как будто отсылает к фаустовскому опыту.
В 2001 году Борис Гройс опубликовал эссе «Одиночество проекта», в котором утверждал, что основным занятием человека в сегодняшнюю эпоху стало «написание» различных проектов и, в более широком смысле, включенность в них. Проект есть продукт определенной установки на проживание времени, когда будущее начинает (как у энтузиастов) господствовать над настоящим и прошлым. Речь по существу идет об институционализации экстатического Dasein, о котором писал Хайдеггер. Гройс спрашивал, чем обусловлено это повальное увлечение проектами, и отвечал: «Каждый проект, кроме всего прочего, диктуется стремлением обрести санкционированное обществом одиночество. Действительно, в отсутствие какого бы то ни было плана мы неизбежно отдаемся на милость потоку мировых событий, всеобщей судьбе и вынуждены постоянно осуществлять коммуникацию с окружающими»22. К проектам, обеспечивающим одиночество, Гройс отнес не только научную и художественную деятельность. С его точки зрения, «одиночество проекта» — шире: «Но существуют также и другие виды не ограниченных во времени проектов — бесконечные проекты вроде религии или построения лучшего общества, которые неизбежно выводят людей из современной им всеобщей коммуникации и переносят их во временнýю структуру уединенного проекта»23.
22 Гройс Б. Комментарии к искусству // М.: Художественный журнал. 2003. С. 198.
23 Там же. С. 199.
Эти утверждения, конечно, выглядят особенно парадоксальными по отношению к большим общественным проектам и в значительной степени — к религии. Мефистофель тоже называет Фауста «нелюдимым» и обращает к нему следующую филиппику: «Так что ж ты разгонять тоску // Засел совой под тенью граба // И варишься в своем соку, // Питаясь воздухом, как жаба?» (с. 127). Но даже в момент крайнего одиночества Фауст остро чувствует причастность к всеобщему, к мирозданию. Он обращается к духу: «Ты предо мной проводишь череду // Живых существ и учишь видеть братьев // Во
всем: в зверях, в кустарнике, в траве» (с. 125). Во второй части в одном из разговоров с Мефистофилем Фауст отстаивает свое право на одиночество проекта, но Мефистофель его опровергает:
Фауст
Не в славе суть. Мои желанья —
Власть, собственность, преобладанье.
Мое стремленье — дело, труд.
Мефистофель
Ты можешь не нуждаться в шуме,
Тебя поэты вознесут,
Чтоб пламенем твоих причуд
Воспламенять других безумье (с. 374).
Пастернак тут дает точный перевод — Durch Torheit Torheit zu entzünden — «воспламенять безумие безумием». Даже если Фауст предпочитает одиночество, он по-своему обречен на энтузиазм и связанный с ним sensus communis. Кант использовал этот термин для обоснования возможности суждения вкуса, которое может разделяться людьми без общности понятий: «Следовательно, они [люди, выносящие суждения вкуса] должны располагать субъективным принципом, который только посредством чувства, а не посредством понятий, но все же общезначимо, определяeт, что нравитcя и что не нравится. Подобный принцип можно рассматривать лишь как общее чувство, сущeственно отличающееся от здравогo смысла, который подчас также называют общим чувством (sensus communis), так как рассудок выносит суждения не на основании чувства, а всегда на основании понятий, хотя обычно только в качестве смутно представляемыx принципов»24.
24 Кант И. Указ. соч. Т. 5. С. 76.

Но еще до Канта sensus communis в сходном смысле описывал Шефтсбери в эссе «Свобода остроумия и юмора», где определял его как «чувство партнерства с человечеством»25 и утверждал, что без него невозможно разумное социальное устройство. По отношению к Германии это чувство в контексте своеобразно понятого религиозного энтузиазма описывал популярный в ХVIII веке теолог Кристоф Фридрих Ойтингер (1702—1782), который считал, что люди ощущают повсеместное присутствие бога с помощью некоего sensus communis. Именно это общее чувство божественного откровения позволяет состояться любому человеческому сообществу — от армии до королевства. В более широком смысле, только общее чувство делает возможным вообще какой бы то ни было проект. Без этого sensus communis проект утрачивает значение того фундаментального события, через которое энтузиазм обозначает направление движения в будущее (что собственно и является проектом).
25 Shaftesbury A. Op. cit. Vol. 1. P. 72.
Но если энтузиазм и «общее чувство» исчезли сегодня из проектов, а порыв в будущее является чистым эскапизмом или плодом корысти и властолюбия, значит из общества, если верить Канту, исчезли единственные знаки, указывающие на движение вперед. Фауст утверждал: «Мои желанья — // Власть (Herrschaft), собственность (Eigentum), преобладанье», — но эти желания не были выражением узкого эгоизма благодаря духу энтузиазма, связывавшему прошлое с будущим.
Немецкий философ Ганс Блуменберг показал, что научное любопытство и энтузиазм, имеющий религиозно-эсхатологические корни, претерпевают радикальное изменение в эпоху Просвещения в контексте появления идеи прогресса. Прогресс иногда представлялся секуляризованной версией христианской эсхатологии, подменяющей идею второго пришествия идеей светлого будущего. Но, как показал Блуменберг, в эпоху Просвещения, которой принадлежал и Гете, любознательность становится основанием безграничного самоутверждения человека26. Просвещение подменяет непроницаемость воли божьей оправданием настоящего через утверждение светлого будущего. Таким образом, экстатическая природа энтузиазма, выводившего человека из настоящего, превращается в утверждение сегодняшнего дня, т. е., по существу, неподвижности, стагнации. Блуменберг также показал, что сама идея прогресса возникает не в области религии (а потому вообще не является результатом секуляризации), но в области эстетики, в контексте сравнения древнего, античного искусства с искусством современности. Преимуществом модели прогресса было то, что в ней человек (а не бог) является творцом истории, так как человек «творит в эстетической сфере, а следовательно, будет агентом всякого возможного прогресса»27. В такой перспективе всякий проект (в том числе и политический) действительно становится, в конце концов, эстетическим проектом. И смыслом всякого проекта, внешне устремленного в будущее, становится приятие настоящего, его оправдание и в конечном счете самоутверждение его инициаторов.
26 Общий очерк идей Блуменберга о секуляризации можно найти у Лоренса Дики: Dickey L. Blumenberg and Secularization: «Self-Assertion» and the Problem of Self-Realizing Teleology in History // New German Critique. 1987. N 41. Spring-Summer. P. 151–165.
27 Blumenberg H. The Legitimacy of the Modern Age. Cambridge, MA, 1983. P. 33.

Гетевский Фауст еще стоит на черте, разделяющей (и соединяющей) Просвещение и энтузиазм прошлого. Фауст принадлежит культуре самоутверждения, но в нем еще силен ренессансный энтузиазм. Кант, как и Гете, — человек Просвещения. Но в «Споре факультетов» он не решается принять без оговорок принципиальную для Просвещения идею прогресса. Вернее, он соглашается сделать это только в той мере, в какой прогресс вбирает в себя изживаемый им энтузиазм. Мне кажется, Кант понимал, чем чреват «прогресс» без энтузиазма. Кант сомневался. Нам, к сожалению, сомневаться уже не приходится.
Читайте также
-
«Адрес — время, а не место» — Новая жизнь Канского видеофестиваля
-
Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...
-
Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана
-
Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»
-
Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда
-
Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина






