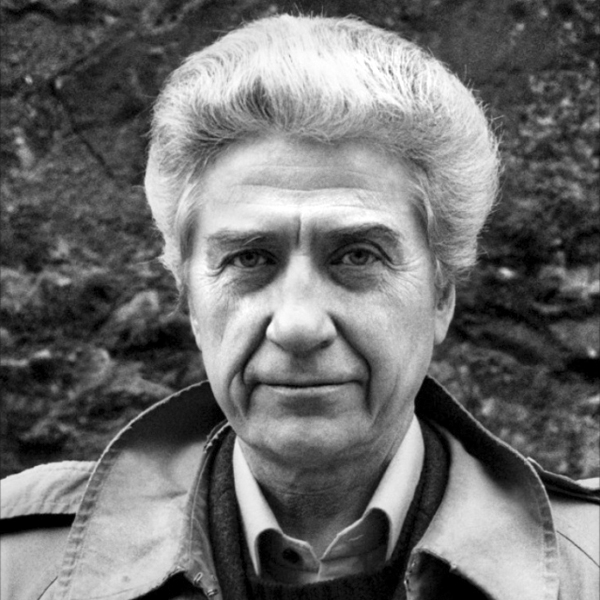«Любить, пить и петь» Алена Рене: взгляд крота
СЕАНС — 61
Застывшее изображение: весна, проселочная дорога в графстве Йоркшир, по обе стороны пышные кроны деревьев словно образуют арку. Что это, как не портал, пройдя через который, мы окажемся в кино? Оно еще не началось: возникают и исчезают вступительные титры в больших старомодных рамках. Ален Рене так любил — каждая из снятых им девятнадцати полнометражных картин открывается подробными титрами, а потом уже, когда ничего лишнего не может появиться на экране, начинается фильм. Стоп-кадр приходит в движение, камера направляется вперед по дороге, и мы оказываемся в театральных декорациях.

Здесь мы, конечно, уже были. Йоркшир — место действия пятичасового диптиха «Курить/Не курить», поставленного по пьесе того же английского драматурга сэра Алана Эйкборна, что и «Любить, пить и петь». Оттуда условное пространство с нарисованными на задниках облаками и игра французской культуры в английскую. В «Курить/Не курить» Сабина Азема и Пьер Ардити изображали всех персонажей по очереди, девять ролей на двоих. Продолжим аналогии с театром: особая прелесть кинематографа Рене заключается в том, что он уже тридцать лет подряд работает с одними и теми же актерами, перевоплотившимися перед нами бесчисленное количество раз. Перевоплощавшимися буквально, то есть старевшими все это время перед камерой со скоростью двадцать четыре кадра в секунду.
Не воспринимал он и эту картину как заключительную, продолжая даже в больнице работать над сценарием следующего проекта.
«Любить, пить и петь» — экранизация написанной четыре года назад пьесы «Жизнь Райли». Джорджу Райли — точнее, Жоржу, будем называть его на французский манер — поставлен страшный диагноз — рак, врачи дают не больше шести месяцев. Четверо ближайших друзей — эксцентричная ассистент стоматолога Катрин в цветастых нарядах Paul Smith (Сабина Азема), ее муж, врач Колен (Ипполит Жирардо), бизнесмен Жак (Мишель Вюйермо), его супруга Тамара (Каролин Сиоль) — решают скрасить умирающему последние дни. Они готовят любительский спектакль на четырех актеров «Относительно говоря» (Relatively Speaking), где как раз не хватает одного исполнителя. Болезнь Жоржа не оставляет равнодушной и школьную учительницу Монику (Сандрин Киберлен), ушедшую от него в поисках новой жизни к интеллигентному фермеру Симеону (Андре Дюссолье).
Так вышло, что «Любить, пить и петь» — последний фильм недавно скончавшегося Алена Рене, но меньше всего хочется вешать на него ярлык прощального и воспринимать как завещание. Уход режиссера так ошеломляет как раз потому, что, несмотря на 91-летний возраст, он снимал без перерыва и останавливаться не собирался. Не воспринимал он и эту картину как заключительную, продолжая даже в больнице работать над сценарием следующего проекта. Действительно, основа ленты, ее движущая сила — смерть. Но разве не был Рене заворожен этой темой на протяжении десятилетий? Даже сравнительно раннее «Провидение», будь оно снято на тридцать лет позже, могло бы сегодня восприниматься как прощание. Предыдущая картина режиссера «Вы еще ничего не видели» — экранизация «Эвридики» Жана Ануя, и нет для него текста более органичного, ведь миф об Орфее и Эвридике ложился в основу, отражался и преломлялся в самых известных работах Рене — «Люблю тебя, люблю», «Любовь до смерти», «В прошлом году в Мариенбаде», даже, отчасти, «Мюриэль» и «Хиросима, моя любовь».

Ив Монтан в финале «Война окончена» произносил: «Недавно тебе говорили, что смерть приносит солнечный свет; но теперь твой друг мертв, и лишь его тень вошла в твою жизнь». Похожие ощущения испытывает окружение Жоржа. Сам Райли в кадре ни разу не появится. Можно было бы назвать его хичкоковским макгаффином, запускающим действие всего фильма, не изобрети Ален Рене собственный — не менее убедительный — термин. Жорж — тот самый «американский дядюшка», вымышленный фантом, незримо реявший над героями одноименной, возможно лучшей, картины режиссера. Жорж — не только друг; вынесенный за скобки Жорж — еще и фантазия каждого из героев о несбывшейся жизни. Шестеро персонажей в ее поисках остаются наедине со своими страхами.
Ради чего-то же люди продолжают смотреть фильмы, проживая чужие жизни, времена, географические пространства.
Колен одержим ходом времени. Его дом заставлен обломками памятных дат — многочисленными бьющими невпопад часами, которые он тщетно пытается синхронизировать. Жак не участвует в подготовке спектакля, у него свои часы — дни рождения нежно любимой дочери Тилли, для которой он лично каждый год режиссирует масштабный праздник. Смерть друга — неотменяемая печать, которую время ставит на человеческой биографии, как не испытать в такой момент хронофобии? Катрин когда-то любила Жоржа и была от него беременна. Моника до сих пор сомневается в правильности совершенного выбора в пользу другого мужчины. Тамара делает вид, что не замечает измен Жака. Райли предлагает каждой из них отправиться с ним в последнее путешествие на море, словно за эти две недели можно переписать заново всю жизнь. Жак давно стал бизнесменом, пусть его и привлекала избранная Жоржем карьера, а Тамара в свое время отказалась от мечты стать актрисой. Смертельная болезнь Жоржа для каждого из них — момент истерической ревизии собственной биографии, мучительного с ней примирения. Тамара спрашивает Жака: «Ты помнишь, как много было fun в начале нашей жизни?»

Бросок костей никогда не исключает случайности. Вариативность, альтернатива, возможность и невозможность выбора — одна из главных тем Алена Рене. Сколько раз он исследовал попытки совершить иной выбор; чем еще является история Орфея, как не стремлением заново прожить прошлое, переписать его. «Дикие травы» предлагали зрителю два финала — печальный и эйфорический, под фанфары 20th Century Fox. «Курить/Не курить» — коллекция из дюжины вариаций одной и той же истории, легко меняющей свой ход в зависимости от разного набора действий или даже произнесенных слов. Да, слово во вселенной Рене обладает настоящей властью. С другой стороны, запланированная автором утомительность «Курить/Не курить» была обусловлена как раз тем, что жизнь персонажей едва ли принципиально меняла свой курс, несмотря на предпринятые ими радикальные перемены. В «Американском дядюшке», несмотря на закадровый комментарий авторитетного психолога, становилось отчетливо ясно, что проигрыш неизбежен. Возможно, вариативность Орфея свойственна не только картинам Алена Рене, но присуща природе кинематографа — ведь ради чего-то же люди продолжают смотреть фильмы, проживая чужие жизни, времена, географические пространства.
«Любить, пить и петь» — третья работа режиссера по пьесе Алана Эйкборна, были еще безысходные «Сердца». Рене утверждал (возможно, в шутку), что англичанин как драматург намного интереснее Чехова. Это явное преувеличение. Автор семидесяти шести пьес, преимущественно водевилей, — усердный и остроумный ремесленник, но едва ли он способен сравниться с соавторами раннего Рене — Маргерит Дюрас, Хорхе Семпруном, Аленом Роб-Грийе. Так ли это важно? Имя другого британца — Джона Ван Друтена — мало что скажет литературоведам или театроведам, но именно по его произведению Джордж Кьюкор поставил шедевр «Богатые и знаменитые», а непритязательность романов Ремарка не помешала Дугласу Сирку и Фрэнку Борзейги снять по ним прекрасное кино.

Литературный первоисточник — «Жизнь Райли» — перенесен на экран практически без изменений, за исключением сдвига времени действия из конца шестидесятых — начала семидесятых в условную современность. Даже замысел работать именно с этим текстом принадлежит не режиссеру, а предложен продюсером — то есть это, как и большинство картин Рене, работа на заказ, в чем он с удовольствием признавался. Что же делает «Любить, петь и пить» фильмом Алена Рене, в чем заключается его авторство? Много лет подряд режиссер повторял, что снимает фильмы с одной целью — чтобы увидеть, как они делаются. Рождение кино, его основы, парадокс существования и есть сквозной сюжет «Любить, пить и петь». Что он привнес? Прежде всего, форму.
Тревеллинг — не просто излюбленный прием, но ключевой элемент поэтики Рене.
Меня заворожил первый же кадр — тот самый снятый с автомобиля тревеллинг, открывающий фильм и затем выступающий перебивкой для перехода между разными местами действия. Это движение камеры — само по себе энигматический образ. Похожим образом «Дикие травы» начинались изображением одинокой башни с абсолютно черным входом-порталом, надвигающимся на зрителя с помощью зума. Один и тот же тревеллинг снимался несколько месяцев — в Йоркшире меняются времена года, желтеют листья на деревьях, надвигаются премьера спектакля и кончина Жоржа. Известно, что последние годы Рене из-за сколиоза и возраста мало путешествовал. Неужели Рене ради этих нескольких минут отправлялся несколько раз в Великобританию? Разве не кроется красота в сложности создания простого и поэтического образа, на который большинство зрителей и не обратит внимания? Десять лет назад Мануэль ди Оливейра ездил в Венецию ради минутной панорамы собора святого Марка для «Волшебного зеркала», где впавшей в кататонический ступор героине муж показывал квадригу — скульптуру из четырех бронзовых лошадей.
 «Любить, пить и петь». Реж. Ален Рене. 2013
«Любить, пить и петь». Реж. Ален Рене. 2013 «Любить, пить и петь». Реж. Ален Рене. 2013
«Любить, пить и петь». Реж. Ален Рене. 2013
Тревеллинг, как и используемые между сценами рисунки известного автора комиксов Blutch, исполняет функциональную роль; кроме того, это мост между реальностью и театром. И в то же время тревеллинг — не просто излюбленный прием, но ключевой элемент поэтики Рене. Вспомним проезды камеры по коридорам призрачной гостиницы в «Мариенбаде», мимо палат полной боли хиросимской больницы или вдоль бесконечных библиотечных стеллажей во «Всей памяти мира». Аналогичный автомобильный тревеллинг позволил режиссеру снять свою самую красивую и таинственную сцену — движение к подземному царству смерти, где среди тумана мы оказывались ближе к финалу «Вы еще ничего не видели».
В титрах указано, что эти съемки проводились в Йоркшире. Наверное, можно допустить, что Рене попросил других людей запечатлеть для него образ, без которого немыслим любой его фильм? В «Сердцах» и «Вы еще ничего не видели» он включил эпизоды, вовсе снятые без его участия; в обоих случаях он приглашал помочь Брюно Подалидеса. В «Вы еще ничего не видели» Подалидесу принадлежит постановка и съемка любительского спектакля, который смотрят герои, а в «Сердцах» он режиссировал фрагменты музыкальной телепередачи, которую Азема записывала на видеокассеты.
Рене настаивает на том, что явление кротика — чистый сюрреалистический акт.
Когда я думаю об этом, я вспоминаю недавние картины молодого французского режиссера Эрика Бодлера «Анабасис Мэй и Фусако Сигэнобу, Масао Адати и 27 лет без изображений» и The Ugly One. Эта дилогия посвящена радикальному постановщику Масао Адати, активному члену террористической организации «Красная армия Японии». Он провел в Бейруте почти три десятилетия, а после депортации оказался заложником на родине, где власти не дают ему паспорт и больше не выпускают за границу. Бодлер снимал по просьбе Адати ливанские пейзажи и Бейрут, который тот теперь может увидеть только благодаря помощи другого режиссера, запечатлевающего для него бесконечно далекие образы.
Всего лишь один кадр «Любить, пить и петь» оказывается столь щедрым на идеи и чувства, а ведь еще не появились актеры. И снова тот же вопрос — что такое фильм вообще и что такое фильм Алена Рене в частности? Как говорил театральный режиссер Герман в «Театре материй» Жан-Клода Бьетта — театр, прежде всего, есть человеческие тела в декорациях. Тогда кино — тела в декорациях, запечатленные на камеру. Роль декораций выполняют разрисованные задники, шторы вместо дверей, развевающиеся полотна. Этот своеобычный подход продолжает и сегодня вызывать у зрителя то предвзятое отношение, которое описывал еще в 1951 году Андре Базен в статье «Театр и кино»:
«Публика не слишком разбирается в кинематографии, отождествляя ее с размерами декораций, с возможностью показать естественную обстановку и придать действию стремительность. Если к пьесе не добавлена хотя бы минимальная доза «кино», зритель сочтет себя обкраденным. Кино непременно должно выглядеть «богаче», чем театр. В основе ереси «экранизированного театра» лежит комплекс амбивалентности, испытываемый кинематографом по отношению к театру, комплекс неполноценности по отношению к искусству более древнему и более литературному, который кинематограф пытается компенсировать техническим «превосходством» своих средств, ошибочно принимаемых за превосходство эстетическое».
Базен анализирует одну из экранизаций «Лекаря поневоле» Мольера: «Первая сцена с дровами происходит в настоящем лесу; она начинается бесконечной панорамой по низкорослому подлеску, явно предназначенной для того, чтобы показать эффекты солнечных лучей, пробивающихся сквозь ветки». И резюмирует: «Мольеровский текст обретает свое значение только среди леса из раскрашенных полотнищ, сцена с дровами может быть в крайнем случае разыграна перед занавесом, у подножия дерева она перестает существовать» (подробнее см. замечательную статью Инны Кушнаревой о «Только не в губы», где она анализирует театральность фильма). В новой картине Алена Рене тоже есть замечательная сцена с дровами у дома фермера, будто иронично снятая в подтверждение тезисов Базена.

Джордж Кьюкор: Между спазмом и смехом
Самая распространенная претензия к «Любить, пить и петь» — словно не прошло более шестидесяти лет с момента написания текста Базена — отсутствие инъекции «кинематографа»: якобы перед нами в лучшем случае телеспектакль, а в худшем — «заснятый театр». Для некорректности первого сравнения достаточно посмотреть поставленный в конце восьмидесятых для BBC телевизионный фильм Майкла Симпсона Relatively Speaking — да, ровно по той пьесе внутри пьесы из «Жизни Райли», одному из первых хитов Эйкборна. Что касается «заснятого театра», то таковым может являться только одно (и то не всегда) — фиксация на камеру спектакля во всей его продолжительности и непрерывности. А «Любить, пить и петь» — резидент кинематографа с присущей ему особенной природой, языком и грамматикой. Пусть и с условной эстетикой, которая из-за засилья «заснятого кино» (снова по остроумному выражению Жан-Клода Бьетта) выглядит сегодня радикальной. Если вспомнить американский кинематограф тридцатых, то там и вовсе не было навязанного противопоставления «театр vs. кино». В «Любить, пить и петь» упоминается «Моя прекрасная леди»; что ж, картина Рене напоминает и «Женщин» Джорджа Кьюкора, где было похожее формальное ограничение — за весь фильм в кадре ни разу не появлялся ни один мужчина, как здесь не появляется Жорж.
Ранние работы Алена Рене так ошеломляюще действовали на зрителя, поскольку он на его глазах словно заново изобретал киноязык, правила которого приходилось постигать по мере просмотра — например, мне с первого раза не сразу стало понятно из-за стремительных монтажных склеек и обрывочных эпизодов, ведется ли повествование в «Мюриэль» в линейном порядке или нет. «Любить, пить и петь» неотделим от этого ощущения свежести и свободы, будто бы даже хорошо известные средства, будь то тревеллинг или зум, кинематограф использует впервые. Рене смешивает разные приемы и техники, как театральные, так и кинематографические, чтобы получился придуманный Раймоном Кено в «Дне святого Жди-не-жди» «бруштукай», аналог рататуя.

Ключевой прием новой картины вовсе невозможен в театре. Драматургические произведения, тем более комедийного жанра, устроены так, что герои редко остаются одни. Рене прямо посреди диалогов неожиданно выхватывает персонажей и помещает в некое вневременное пустое пространство с черным орнаментом на белом фоне, разбивая с помощью монтажа и камеры сценическую условность. Они продолжают произносить текст, словно ничего не произошло. Эти немного жутковатые диалоги, превращенные в монологи, на фоне решетки вступают в противоречие с легкой игривостью первоисточника. Они будто экранизируют воспоминания Катрин о Жорже, которая произносит: «Он замедлял время, делал его застывшим, словно в загробном мире». Когда-то в «Сердцах» Алену Рене понадобились сюжетные подпорки, чтобы, приведя героев к финалу, показать их окончательное одиночество. Теперь, даже если они окружены близкими друзьями или лонг-тайм-партнерами, они оказываются обнажены, выхвачены из одного условного мира и помещены в еще более условный. Эти сцены напоминают странный сюрреалистический кастинг, поскольку не остается больше ничего, кроме лиц актеров и произносимых ими слов (впрочем, что может быть красивее?).

В «Любить, пить и петь» Ален Рене оставил нам настоящий алфавит жизни.
На всю картину есть ровно один зум, если не считать плавных увеличений рисованных изображений — комиксов — в перебивках между сценами. Он тоже нарушает дистанцию, свойственную сценической эстетики, — и позволяет не просто оказаться ближе к персонажам, но проникнуть к ним в голову. Ближе к финалу в кульминационной сцене камера резко увеличивает лицо Сандрин Киберлен (вторая прекрасная актерская роль за год вместе с «Тип Топом» Сержа Бозона). Вдруг впервые за фильм, где не могло быть места внутренним монологам, озвучивается словами ее непроизнесенная мысль: «Сейчас я его потеряю».
Попытка разобраться во внутренней механике «Любить, пить и петь» сама по себе приносит настоящее удовольствие. Впрочем, «Любить, пить и петь» — шедевр, в первую очередь, благодаря легкости, простоте и витальности. Название взято из одноименной песни, которая звучит на финальных титрах в исполнении еще одного Жоржа — Тиля, известного оперного певца первой половины XX века. Aimer, boire et chanter образует первые буквы алфавита. По словам актеров на пресс-конференции, следующей буквой должна быть D — danser, танцевать. В «Любить, пить и петь» Ален Рене оставил нам настоящий алфавит жизни. Здесь аплодируют, бегают, вдохновляют, гладят друг друга, дурачатся, ехидничают, желают, заботятся, играют, кокетничают, любят, мечутся, ныряют с аквалангом, оглядываются на прошлое, пьют, репетируют, смотрят на появившийся в небе месяц, терпят, убирают дом Жоржа, фантазируют, храбрятся, целуются, чувствуют, шелестят газетами, щебечут, экспериментируют, являются словно из воздуха (любимый спецэффект режиссера). Как говорил загадочный рассказчик в «Диких травах»: «Когда выходишь из кинотеатра, то уже ничему не удивляешься. Может случиться все что угодно, это не удивляет. Все может случиться так естественно, насколько это возможно». Ален Рене всегда по-старомодному заканчивал фильмы обязательной надписью FIN. В стремительном впервые возникает дочь Жака — Тилли — и кладет на гроб Жоржа (Жорж + Тилли = Жорж Тиль) фотокарточку с черепом и крыльями. F — неминуемая буква алфавита.

Но прежде появляется еще один эпизодический персонаж — крот, который однажды выползает из норки, чтобы посмотреть на разыгрывающуюся человеческую комедию, а затем уползает обратно. Специалисты по творчеству Рене давно составляют бестиарии из живности, представленной в его фильмах. Разве не так смотрела черная кошка на заточенную в подвал героиню «Хиросимы», которой озлобленные жители Невера обкорнали волосы? Рене настаивает на том, что явление кротика — чистый сюрреалистический акт, который является самоценным и интерпретации не поддается. Что он делает? Просто смотрит на актеров-героев, как сам режиссер во время съемок или мы, зрители, в кинотеатре. Ведь создаваемая фильмом воображаемая реальность оживает лишь дважды — от взгляда автора и взгляда зрителя. Впрочем, крот близорук и плохо видит. Он присутствует рядом, как медузы, спонтанно появляющиеся в «Знакомой песне» в заключительной сцене новоселья, или те самые сорняки, дикие травы из одноименной картины. Что такое фильм Рене? Вот и ответ: без крота, автомобильного тревеллинга и Сабины Азема перед нами «Жизнь Райли» Алана Эйкборна; с кротом — «Любить, пить и петь» Алена Рене.