Прожиточный минимум

Виктор Топоров (фотография Александра Низовского)
— Современное российское кино последних лет сосредоточилось на изображении жизни «социальных низов». Гастарбайтеры, ментовские будни, спивающаяся провинция… Откуда интерес к таким героям и такой натуре?
— У наших режиссёров — прежде всего фестивальных — всегда была на вооружении идея «ненавязчивой» торговли родиной. Последние два десятилетия Запад требует образа дикой, грубой и страшной «Рашки». Первым это уловил Павел Лунгин, потом ему на смену пришли в разной степени одарённые, в том числе, и безусловно одарённые молодые режиссёры — Хомерики, Серебренников, Мамулия, которые готовы были, осознанно или нет, но со страстью торговать ужасной Россией.
—
— Да, это наше общее зверство, но когда ты берёшь его маленький фрагмент — да ещё и вкладываешь сюда
— Что же тогда, вообще про это не снимать?
— Про всё можно снимать кино, но, к сожалению, когда речь заходит о современном российском кинематографе, чаще всего получается то, что Горацио в «Гамлете» называл «чересчур пристальным взглядом на вещи».

На съёмках фильма Юрьев день Кирилла Серебренникова (фотография Георгия Быкова)
— И отсюда ощущение фальшивости социального высказывания? Как говорится, что об «униженных и оскорблённых» может сказать режиссёр, который не выезжал за пределы Садового кольца?
— Это ещё один фактор,
— А они другие, эти мерзости?
— Мерзость в том, что у нас нельзя представить своего Грегори Хауса. Сложно вообразить человека, которого будет две недели лечить отдельная врачебная бригада и потратит на него миллионы долларов, а у него страховки, как водится, не окажется. Не может у нас такого быть! Три часа не можешь дозвониться до скорой помощи, а если она
Очень сложно представить себе и заключённого, которого кормят на десять долларов в сутки, потому что десять долларов в сутки — это просто прожиточный минимум, который и на
— Однако на «чернуху» существует постоянный спрос в других местах: те же проститутки и менты обитают в
— То, о чём вы говорите, — это феномен газеты
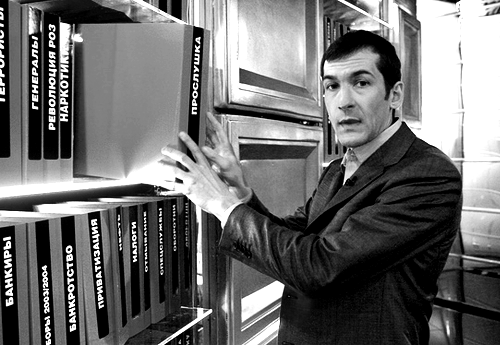
Глеб Пьяных — ведущий Программы максимум (телеканал НТВ)
— А вы видите
— Перспективным в этом плане могло бы стать сейчас документальное социальное кино, но, мне кажется, его аудитория уже просто вымотана. Она появилась в тот момент, когда стало активно развиваться это направление — лет двадцать или двадцать пять назад — и это была не
— Отчего так — социальная зоркость исчезла, или
— У нас, безусловно, есть несколько талантливых социальных режиссёров: главный из них — Балабанов, он на порядок зорче всех остальных. При этом его социальная зоркость находится в балансе с авангардными, но приемлемыми для публики художественными возможностями. Большинство тех, кто обладает такой зоркостью, обычно отличается совершенно тривиальным художественным видением. Но чаще всего тем, кто, владеет талантливым и авангардным языком, нечего сказать.
— То есть, чтобы социальное кино не пролетало мимо зрителя, оно должно быть обязательно авангардным, то есть по сути оппозиционным?
— Если мы углубимся в историю, то самым адекватным примером окажется французское и итальянское кино, возникшее после событий

Кадр из фильма Жан-Люка Годара Китаянка (1967-ой год)
— Значит, эффективное социальное высказывание — это в первую очередь отчётливая социальная или даже
— Одна из важных функций социального кино — агитационная. Будь оно эффективным в этом смысле, вопрос о целях его создания снялся бы сам собой. Но не очень понятно, за что сегодня можно и / или нужно агитировать. Образ России — «
Мне кажется, что социальное кино должно быть скорее похоже на листовку времён старого советского анекдота… Органы берут одного товарища, который разбрасывает из окна листовки. Смотрят — а
— А
— Таково оно сейчас, например, в Румынии. Принципиально важно, что там память о режиме существует отдельно от экзистенциальной драмы, которая гораздо важнее.
— Мне всегда казалось, что социальное кино должно консолидировать своих зрителей. Вы думаете, что нам ещё до этого далеко?
— Кинематограф раннего Вайды консолидировал польскую интеллигенцию, ненавидевшую советскую оккупацию, и в то же время нашу интеллигенцию, которая воспринимала её позже как метафору оккупации Советами нашей страны. Любой антивоенный фильм консолидирует всех пацифистов — в той или иной мере. В то же время любой сильный военный фильм консолидирует наше Отечество, потому что у нас осталась одна не девальвированная идея — победа в Великой отечественной войне.
Есть такой пример на эту тему, который я очень люблю… Пьеса «Отелло» пользовалась в России гораздо большим успехом, чем в Англии и во всём остальном мире. Этим она была обязана неточности первого переводчика. Когда Отелло говорит о том, за что его полюбила Дездемона, он произносит: «She loved me for the dangers I had passed», то есть «за жизнь, что была полна опасностей». Это может сказать о себе далеко не каждый мужчина. У нас же, как известно, она его «за муки полюбила». За муки можно полюбить каждого. Но в муки редкого героя нашего социального кино хочется и можется верить. Так что оно едва ли консолидирует даже по этому принципу.

Алексей Балабанов на съёмках Кочегара (фотография из журнала Афиша)
— Что же должно произойти для того, чтобы в российском кино был достигнут какой-то «прожиточный минимум» социальных смыслов?
— Я бы сказал так: прежде чем хорошенько разобраться с проблемами социального кино, стоит разобраться с социальными особенностями нашего кинопроизводства. У нас, как нигде, остро стоит проблема «папиного кино» — в прямом смысле этого слова: я говорю о детях знаменитых отцов, которым легче получить деньги на своё кино, чем они активно и пользуются. Надо менять эту порочную систему и решительно начинать делать то, чего ещё никто не делал.
— Но ведь есть всё-таки режиссёры, чьи фильмы формально как будто бы вписываются в современный контекст, но им безоговорочно веришь…
— Всё тот же Балабанов? Безусловно. Любой контекст, к счастью, допускает исключения: талант — главное из них. Тут, правда, тоже надо быть осторожным: история культуры задним числом выдает искавших за нашедших. А как говорил Ницше: «В мире нет нашедших — есть только ищущие».
Читайте также
-
Энергия несогласия — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова
-
«Адрес — время, а не место» — Новая жизнь Канского видеофестиваля
-
Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...
-
Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана
-
Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»
-
Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда






