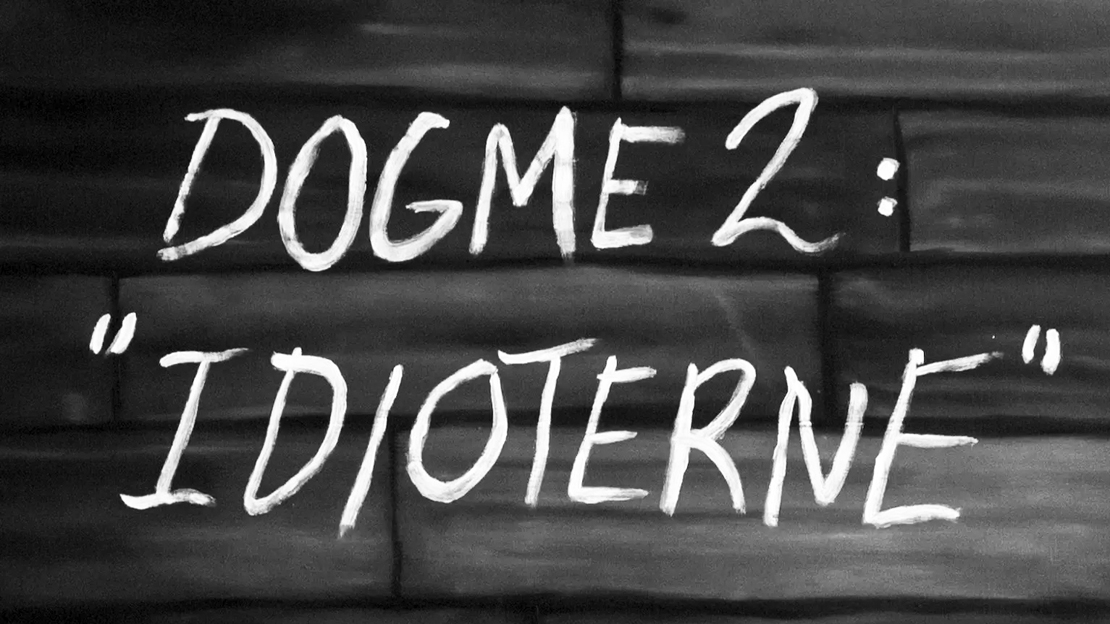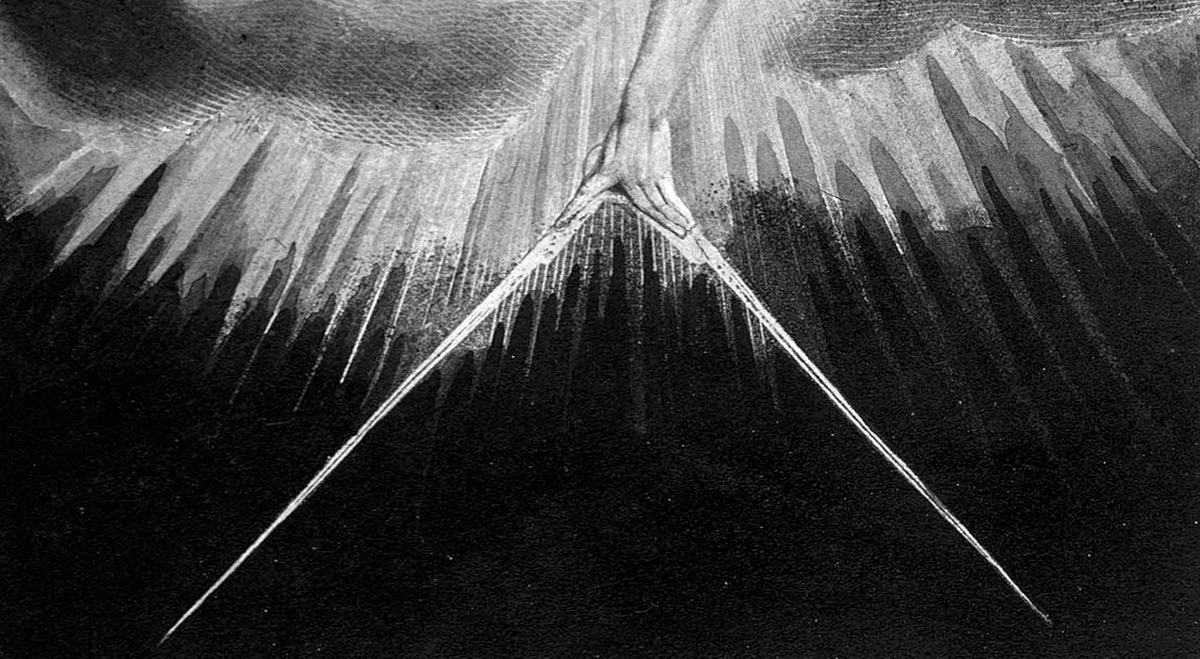Конец фильма как конец света
Расстояние между сакральным и профанным сужается до бесконечно малой величины. Библия выходит в новом русском переводе, лишенном высокопарной риторики и сближающем священный текст с голливудским блокбастером. Одним из самых коммерческих литературных жанров в России оказывается «постапокалиптика» —

Меланхолия (2011)
«Меланхолия» Ларса фон Триера, к большому счастью, не имеет отношения ни к чему из вышесказанного. Фильм изображает не «жизнь после смерти», а предчувствие смерти. Эта скандинавская традиция сближает «Меланхолию» с картинами Бергмана о сильных чувственных женщинах и жалких перед лицом вечности рациональных мужчинах. А также с образами Тарковского, давнего кумира Триера, с которым он общается в «Меланхолии» через брейгелевских «Охотников на снегу».
Не менее важен опыт немецкой трилогии Висконти, особенно «Гибели богов» и «Людвига» с их визуально пышной
Эти и другие образы редкой графической выразительности вполне могли бы стать прелюдией к старому доброму декадентскому кино. Но декаданс нашего времени обручен с гламуром. «Меланхолия» анонсирована как «красивый фильм о конце света». Две сестры, скачущие на лошадях по божественным ландшафтам, — образ красоты, обречённой на умирание в самом расцвете; но это кадр не из Висконти, а из глянцевого журнала. А чего вы ждали: ведь одна из сестер работает в рекламном агентстве, под стать ей и остальные герои и героини «Меланхолии».
Увидев трейлер собственной картины, Триер схватился за голову. Сидя в своем студийном офисе, похожем, по словам датского журналиста, на бункер фюрера, он обозвал свою выстраданную работу диснеевской сказочкой. А потом продолжил самобичевание в рекламном буклете (тоже чрезвычайно красивом), охарактеризовав фильм как слишком дамский и гламурный. Внутренний конфликт интересов вылился в инфантильное заявление на каннской
Астрономические и планетарные темы, напомнившие о «Космической одиссее» Кубрика, были популярны в этом году в Канне. У Триера они доведены до пика пессимизма: в финале Земля вместе с её непутевыми обитателями сталкивается с огромной планетой по имени Меланхолия (которая раньше таилась по другую сторону Солнца: намек на Сатурн) и превращается в звёздную пыль. Это своего рода оптимистический апокалипсис: ведь Земля, погрязшая в пороке нелюбви, заслужила свой конец, а Меланхолия — в некотором смысле планета добра, ставящая на зле крест. Однако всё это дано в проброс, упрятано в полубредовой болтовне героини, нутром предчувствующей катастрофу. Никакой религиозной риторики — и за это тоже Триеру большое спасибо.

Меланхолия (2011)
Двойственность заложена не только в глобальном, но и в частном сюжете фильма. Он делится на две части — «Жюстин» и «Клер» — по именам двух сестёр. Жюстин сыграла Кирстен Данст, заслуженно признанная в Канне лучшей актрисой. А роль Клер режиссёр припас перешедшей в этот проект из «Антихриста» Шарлотте Генсбур. Две женщины — совершенно не похожие друг на дружку блондинка и брюнетка — совершают перед лицом надвигающегося конца поразительные сверхмутации.
Первая часть фильма — свадьба Жюстин, происходящая в сказочном загородном
Клер (ей и её мужу принадлежит замок, их деньгами оплачено торжество) — воплощение позитивного подхода к жизни. Она, естественно, не понимает, осуждает, но из гуманизма жалеет свою сестру. Во второй части фильма Клер привозит Жюстин, совсем больную, почти безумную, в этот самый дом, где вместе они ожидают дня катастрофы, о которой уже гудит весь Интернет. Клер всё еще готова довериться утешительным прогнозам своего мужа, оснащённого астрономической аппаратурой и рапортующего, как Меланхолия благополучно прошла мимо Меркурия и Венеры. И все же космический айсберг не минует «Титаника». Причем встречать его двум женщинам доведется без мужчин (если не считать юного сына Клер), которые все самым нелепым образом исчезнут перед решающим моментом.
И вот тут выяснится, что именно Жюстин готова к этому последнему испытанию. Она строит для себя, сестры и её сына

Меланхолия (2011)
Вряд ли возникла бы мысль сопоставлять «Меланхолию» с «Еленой» Андрея Звягинцева, но каннская драматургия неожиданно соединила их, хотя и не в одной программе, но в одной умственной проекции. Вспомнилось, что Звягинцев собирался снимать свой фильм для проекта «Четыре всадника Апокалипсиса», причем снимать
В фильме нет никаких поэтических красивостей, как нет и страха, тоски, ощущения вины и греховности, томительных предчувствий, — словом, всего того, что Триер немного кокетливо обозначил как «меланхолия». Наступление плебса на умирающий мирок интеллигентских ценностей — сюжет, проработанный со времён Чехова, Трифонова, Авербаха, — здесь интерпретирован в духе нового времени, без ностальгии и особенного сочувствия к одной из сторон. Интеллигент стал олигархом, а Елена из люмпенского пригорода оказывается троянским конем в стане капиталистов и уподобляется античной